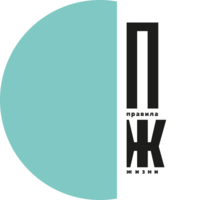Роберт Хьюз. «Рим. История города: его культура, облик, люди»
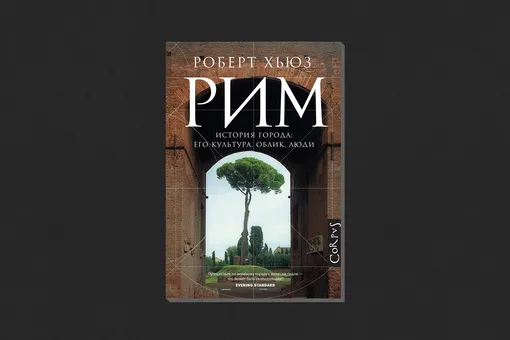
Футуризм и фашизм
Футуризм был культурным движением, стремившимся изменить повседневную жизнь человека; основателем его был Филиппо Томмазо Маринетти — «кофеин Европы», как он любил себя именовать. Он родился в Александрии, в Египте, в 1876 году. Его отец Энрико был преуспевающим корпоративным юристом и жил с его матерью Амалией Гролли, хотя никогда не был на ней женат. В отличие от большинства поэтов, музыкантов и художников своего круга Маринетти не испытывал недостатка в деньгах: для него (как и для большинства людей, которым повезло так же) финансовый достаток означал свободу. Ему никогда не приходилось отклоняться от своей добровольной миссии по изменению мирового порядка, чтобы заработать на хлеб, а смелость, с которой он критиковал самодовольство среднего класса, объяснялась его собственной социальной защищенностью. Как главный распорядитель культурного обновления Европы он должен был присутствовать везде — не только в Риме, где у его семьи была большая квартира, но и в Париже, Санкт-Петербурге, Москве, Цюрихе, Берлине, Лондоне и особенно в Милане, который он выбрал своим домом. Такая насыщенная жизнь требовала немалых средств, а Маринетти был одним из немногих модернистов (среди итальянских — так и вовсе единственным), который располагал ими с избытком.
Он получил образование в иезуитском колледже, и это, вероятно, немало способствовало его уверенности в собственной исключительности, тем более что иезуиты исключили его в буквальном смысле слова за культурное хулиганство, поймав на распространении копий натуралистических романов Золя.
Одним из факторов, обусловивших его расхождения (мягко говоря) с воззрениями среднего класса, было его увлечение Африкой, которое возникло благодаря его египетскому детству. Маринетти стремился казаться как можно более экзотической личностью и обыгрывал это всеми возможными способами. Vulgare Greciae dictum, — писал Плиний Старший в своей «Естественной Истории», — Semper Africam aliquid novi afferre: «В Греции широко распространена поговорка, что Африка вечно приносит что-то новенькое». Эта поговорка легко могла бы быть девизом Маринетти, и этим объясняются частые упоминания о доблести «негров» (как он называл африканцев, в соответствии с принятым в его время словоупотреблением) в его сочинениях. Он изображал африканцев выносливыми, энергичными, бесстрашными людьми, не теряющими присутствия духа в ситуациях, которые способны обескуражить любого европейца, то есть, в каком-то смысле, прирожденными авангардистами, к которым Маринетти причислял и себя самого. Однако, в отличие от Пикассо, Матисса или Дерена, он никогда не был подвержен влиянию «примитивного» искусства Африки. Он был писателем и перформансистом, а не художником. Впрочем, вполне возможно, что есть связь между языками и напевами Черного Континента, как их представляли себе Маринетти и другие интеллектуалы, и практикой бессмысленного звукоподражания («Слов на свободе»), которая стала важной частью его поэтического метода. Как и некоторым другим европейцам, желавшим продемонстрировать свое отличие от толпы, ему нравился образ «тумба-юмба», дикого африканца с костью в носуКоторая в действительности являлась традиционным украшением аборигенов Папуа-Новой Гвинеи..
Отец отправил его в Париж за степенью бакалавра, которую он и получил в 1893 году. Вернувшись в Италию, Маринетти поступил на юридический факультет университета Генуи и окончил его в 1899 г., однако по специальности никогда не работал. Вместо этого он вел образ жизни юного литературного фланера, писал стихи, эссе, пьесы, а также чем дальше, тем больше и со все возрастающим мастерством занимался журналистикой на французском и итальянском языках. Его все сильнее притягивали литературные и художественные круги Рима, Турина и Милана.
Начало движению, получившему название «футуризм», положило эссе, которое Маринетти написал по-французски и опубликовал в Париже (как и подобало произведению международного значения) в 1909 году. С тех пор манифесты стали для Маринетти главной художественной формой: за исключением Д’Аннунцио, никто в культурном мире Европы не обладал таким инстинктивным талантом публициста и не мог превзойти его в задиристости.
В его текстах, как и в произведениях его друзей-футуристов, постоянно появляются одни и те же механические, воинствующе-современные образы. «Наш прекрасный мир, — пишет Маринетти, — стал еще прекраснее — теперь в нем есть скорость. Под багажником гоночного автомобиля змеятся выхлопные трубы и изрыгают огонь. Его рев похож на пулеметную очередь, и по красоте с ним не сравнится никакая Ника Самофракийская».
Сегодня многим это покажется справедливым. По крайней мере, сейчас, спустя сто лет после выхода этого манифеста, нам нетрудно признать, что машина и скульптура равно прекрасны, хотя и каждая в своем роде. Но в 1909 г. подобные чувства казались большинству образованных европейцев кощунственными, чуть ли не сатанинскими, поскольку они противоречили «общепринятому» способу эстетического восприятия, согласно которому в автомобиле просто не могло быть ничего прекрасного, а в скульптуре, наоборот, ничего, кроме прекрасного.
Автомобиль — «объект самообожания», как назвал его один писатель, — был главной иконой футуризма, его символом, волнующим объектом вожделения. Сравниться с ним в этом смысле могла только одна вещь — аэроплан, который тогда (в 1910 г.) находился на самой ранней стадии своего развития: пионеры самолетостроения братья Райт совершили первый пробный полет на аппарате тяжелее воздуха с двигателем в 1903 году. Мечтой футуристов был простой моноплан Блерио, вроде того, который примерно тогда же пересек Ла-Манш. Поезда и скоростные моторные лодки тоже занимали их воображение, но куда им было до автомобиля, чье стремительное движение, подвластное (или нет) управлению человека, казалось Маринетти и другим футуристам подтверждением мысли их любимого писателя и философа Анри Бергсона (1859–1941 гг.), сказавшего, что реальность есть непрерывный поток: поездка на машине дарила водителю и пассажирам быструю смену уровней восприятия, так что общее впечатление больше походило на коллаж, чем на статичную картину. Поэтому когда творчество футуристов, и писателей, и живописцев, обращалось к автомобилям, всегда становилось очень личным (их «Я» оказывалось на месте водителя) и было неизменно сосредоточено на опьяняющем чувстве направленной энергии и быстрых перемен. Излишне напоминать, что футуризм возник в тот момент истории (первое десятилетие xx века), когда дороги были свободны от других машин, а дорожных пробок, которые сегодня стали символом автомобильной культуры, еще не существовало. С чем можно сравнить ощущения человека, который мчался на мощной машине по ночному итальянскому городу до изобретения светофора? В Первом манифесте футуризма (1909 г.) Маринетти излагает свою версию в духе излияний мистера ЖаббаПерсонаж сказочной повести шотландского писателя Кеннета Грэма, которая впервые была опубликована в Англии в 1908 году..
На дворе стоял 1908 год. Была ночь, он засиделся допоздна в компании двух своих друзей — таких же автоманьяков, как и он сам, — разглагольствуя о жизни и об искусстве, как вдруг под окнами «как голодные дикие звери, взревели автомобили.
— Ну, друзья, — сказал я, — вперед! Мифология, мистика — все это уже позади! На наших глазах рождается новый кентавр — человек на мотоцикле, — а первые ангелы взмывают в небо на крыльях аэропланов! Давайте-ка саданем хорошенько по вратам жизни, пусть повылетают напрочь все крючки и засовы!..»
Подобное бахвальство наверняка заняло бы одну из первых строчек в любом списке «Воззваний, которые, скорее всего, никогда не звучали» (хотя в случае с Маринетти уверенности нет: он вполне мог произнести что-то в этом духе). Как бы то ни было, вот они уже внизу, садятся в свои машины, «три рыкающих зверя, дабы возложить свои жадные ладони на их знойные груди». Моторы взревели, и они помчались, охваченные чем-то вроде механико-сексуальной горячки. «Как молодые львы, мы кинулись вдогонку за смертью <...> Не за что нам было умереть, разве только чтоб сбросить непосильную ношу собственной смелости!» Но тут, увы, дорогу преграждают два велосипедиста: Маринетти и его друзья, подобные «молодым львам», пытаются избежать столкновения. Его машина влетает в канаву и переворачивается, окатывая Маринетти священной грязью. «Ох ты, матушка-канава, залетел в канаву — напейся на славу! Ох уж эти мне заводы и их сточные канавы! Я с наслажденьем припал к этой жиже и вспомнил черные сиськи моей кормилицы-негритянки! Я встал во весь рост, как грязная, вонючая швабра, и радость раскаленным ножом проткнула мне сердце».
И так далее, и тому подобное до бесконечности: никто не смог бы упрекнуть Маринетти в излишнем лаконизме. Легко посочувствовать некоему раздраженному итальянскому писателю, который в ответ на вопрос, согласен ли он, что Маринетти — гений, парировал: «Нет, он фосфоресцирующий кретин!», но в действительности, хотя Маринетти и не дотягивал до первого определения, он все же значительно превосходил второе. Иногда он кажется полным идиотом, например, когда прославляет войну как «единственную гигиену мира» вкупе с милитаризмом и патриотизмом или призывает наполнить каналы Венеции обломками ее разрушенных дворцов. Один из его самых знаменитых антиромантических манифестов называется «Убьем лунный свет!». Он решительно презирал взгляды Джона Раскина на искусство, природу и (как неизбежное следствие) Венецию. «Когда, — вопрошал он свою английскую аудиторию во время публичного выступления в Лицеум-клубе в Лондоне в 1910 г., — когда вы наконец сбросите бремя худосочной идеологии этого жалкого Раскина <...> с его болезненными мечтами о сельской жизни, ностальгией по гомеровским сырам и мифическим пряхам, ненавистью к машинам, пару и электричеству! Этот безумец, помешанный на античной простоте <...> хочет по-прежнему спать в своей колыбельке и припадать к груди дряхлой старухи-кормилицы, чтобы вернуться в бездумное младенчество».
Наверное, это глупейшая обличительная речь из всех, которые когда-либо звучали в адрес Рёскина, хотя, возможно, ее недостатки можно списать на ограниченный английский лексикон Маринетти. Он явно не был феминистом, однако заявлял, что поддерживает «полуравенство мужчин и женщин и уменьшение диспропорции в их социальных правах», что ставило его на голову (ну, или на полголовы) выше большинства итальянцев. Он трезво смотрел на вещи, и порой в его язвительных замечаниях можно обнаружить зерно истины: так, Маринетти наблюдает обесценивание любви (сентиментальности и похоти), результат большей свободы и эротической доступности женщины и того преувеличенного значения, которое придается роскошным женским нарядам <...> сегодня женщина больше любит роскошь, чем любовь. Визит в ателье знаменитой портнихи в сопровождении банкира, пузатого и страдающего подагрой, но оплачивающего счета — лучшая замена романтическому свиданию с обожаемым юношей. Все тайны любви женщина постигает, выбирая необыкновенный туалет по последней моде, которого пока еще нет у ее подруг. Мужчина тоже не любит женщин, которым недостает роскоши. Любовник как таковой сегодня утратил всякую ценность.
Грустно, может быть, но с этим не поспоришь. Маринетти был завзятым бабником: если верить его рассказам об интрижках с красотками Москвы и Санкт-Петербурга во время лекционного тура по России, как любовник он был неотразим. Позиция футуристов в отношении женщин заключалась, в общем, в том, что женщину следует считать скорее воплощением первобытных сил, чем мыслящим существом. «Пусть каждая женщина вновь откроет в себе жестокость и склонность к насилию, которые позволяют им воспламенять побежденных», — гласил футуристский манифест 1912 г. «Женщины, станьте опять такими же возвышенно несправедливыми, как любая сила природы!» В братстве талантов, сплотившихся благодаря исключительной харизме Маринетти, женщин-художниц, конечно, не было.
С возрастом Маринетти все теснее сближался с мощным общественным движением, которое развивалось тогда в Италии, — фашизмом. Конечно, сам он думал иначе: с его точки зрения, это фашистские лидеры, включая самого Муссолини, тянулись к нему, нуждаясь во вдохновении, которое мог дать им только он лично и футуризм вообще. Основанная им в 1918 г. «Политическая партия футуристов» позднее влилась в «Итальянский союз борьбы» Муссолини. Сам Муссолини не имел узкопартийных взглядов на изобразительное искусство, за исключением архитектуры, но он определенно не разделял той истерической ненависти к модернизму, которая обуревала Гитлера и его заместителей по вопросам культуры, считавших модернизм всемирным еврейским заговором. Он никогда не выражал заинтересованности в том, чтобы привезти нацистскую выставку «Entartete Kunst» (то есть «Дегенеративного искусства») в Италию, и не призывал свой народ к созданию ее итальянского аналога. Объяснялось это просто: прежде всего Муссолини не был антисемитом, а кроме того, как он заявил в 1923 г., уважал искусство: «У государства одна обязанность перед искусством: не подрывать его, обеспечить гуманные условия для художника», проще говоря, убраться с дороги. Гитлер мог ненавидеть футуризм, но как мог его ненавидеть Муссолини? Маринетти удалось уговорить Муссолини не привозить выставку «Дегенеративного искусства» в Италию. Он протестовал (поначалу успешно) против того, чтобы итальянские фашисты копировали культурный антисемитизм нацистов. Тем не менее на исходе 1920-х гг. Маринетти стал менее непримиримым: он не возражал, когда был избран в итальянскую Академию, пытался, хотя и безуспешно, объявить футуризм официальным государственным искусством Италии, а также принял участие в пропаганде религиозного искусства и объявил, что Иисус Христос был футуристом (что, учитывая экзальтированные апокалиптические предсказания Иисуса о преображении и жизни будущего века, возможно, было недалеко от истины). Самого Маринетти никто не мог бы обвинить в том, что он не исповедует то, что проповедует: человек, воспевавший войну как единственную гигиену мира, пытался поступить (хотя и не был принят) добровольцем на действительную военную службу во время Второй мировой войны, когда ему уже перевалило за шестьдесят.
Из всех художников, которые были связаны с группой футуристов и пользовались поддержкой Маринетти, наиболее талантливы были трое: живописцы Джино Северини и Джакомо Балла и скульптор (а также живописец) Умберто Боччони (1882–1916 гг.).
К ним можно добавить и четвертого, музыканта, чье творчество мы сейчас оценить не можем, поскольку специфические инструменты, на которых исполнялись его произведения, давно утрачены: это Луиджи Руссоло (1885–1947 гг.), духовный предок таких эксцентричных модернистов, как, например, английский композитор Корнелиус Кардью. Руссоло считал, что немузыкальные звуки индустриального происхождения — шумы машин, заводов и фабрик — имеют не меньшую эстетическую ценность, чем традиционные тембры струнных или духовых оркестровых инструментов. В связи с этим он конструировал то, что называл intonarumori — «шумогенераторы». На его первом концерте в Театро даль Верме в Милане в 1914 г. были задействованы восемнадцать таких устройств, называвшихся, в соответствии с производимыми ими звуками, «ревун», «трескун», «булькальщик», «громыхальщик», «свистун», «взрывальщик», «войщик», «стучальщик» и так далее. Под градом овощей, которые швыряла в оркестр возмущенная публика, были исполнены три композиции Руссоло, включая «Встречу автомобилей с аэропланами». Другие выступления прошли в Лондоне и Париже и вызвали подобное же лестное возмущение. Руссоло заявлял, что «перенасыщен» Бетховеном и Вагнером: теперь, по его словам, «мы находим куда больше удовольствия в комбинации шумов трамваев, работающих двигателей, вагонов и гула толпы, чем в переслушивании, например, "Героической" или "Пасторальной". К сожалению, ни один из шумогенераторов Руссоло не сохранился, и мы можем получить только приблизительное представление о тех звуках, которые они производили.
Джино Северини создал одну из главных икон футуризма — перенаселенную, пеструю, бешеную панораму ночной жизни: "Динамический иероглиф бала Табарен", 1912 год. Джакомо Балла (1871–1958 гг.), учивший живописи и Северини, и Умберто Боччони, присоединился к футуристам уже известным художником и создал самую популярную картину этого движения — обезоруживающе смешное полотно "Динамизм собаки на поводке", 1912 год. Это одно из немногих замечательных произведений модернистов, которое способно повеселить зрителя и которое сразу узнают почти все: очаровательное изображение таксы, которая семенит по тротуару возле ног своей хозяйки, виляя хвостом и истошно перебирая лапами. Но на большинстве работ Баллы изображены мчащиеся автомобили. Некоторые из этих полотен были очень большими (например, "Абстракция скорости", 1913 г., почти два с половиной метра в ширину), и все они были проникнуты ревущим романтизмом Первого манифеста Маринетти, покрыты векторами и яростными, динамичными кривыми.
Эти работы были многим обязаны фотографии. Главным источником вдохновения для Баллы были эксперименты Этьена Жюля Марея (1830–1904 гг.), французского ученого, которого с полным основанием можно назвать отцом современного кинематографа. Эдвард Майбридж, изучая движения людей и животных, устанавливал в ряд несколько фотокамер, чтобы получить отдельные снимки разных фаз движения. Марей поступал иначе: он использовал целлулоидную пленку, чтобы запечатлеть последовательность движений на одном негативе, с одной точки обзора, через линзу одного объектива, следующего за траекторией падения объекта. Именно это изобретение, а не последовательность стоп-кадров Майбриджа, было истинным предком кинокамеры.
Случай Боччони весьма поучителен, так как самая известная (и лучшая) из его сохранившихся работ — "Уникальные формы непрерывности в пространстве" (1913 г.) — представляет собой скульптуру шагающего человека, в основе которой лежит то самое произведение, которое Маринетти оценил ниже "ревущей машины, мотор которой работает как на крупной картечи": древнегреческая Ника Самофракийская. Выступы, впадины и пустоты этой скульптуры продиктованы убеждением Боччони в том, что "cкульптура должна делать объекты живыми, отражая ощутимо, систематически и пластически их продолжение в пространстве, чтобы никто не мог понять, где заканчивается один объект и начинается другой <...> тротуар может взбегать к вам на стол <...> пока ваша лампа протягивает паутину гипсовых лучей от вашего дома к соседнему". Но в то же время эта скульптура иллюстрирует тот факт, что очень трудно, а для большинства художников и невозможно, создать произведение искусства, которое было бы на 100% новым в том смысле, в котором разглагольствовали о новизне футуристы. У всего есть свои прообразы, и их наличие не умаляет глубины произведения искусства. Боччони создал еще, по крайней мере, десяток скульптур в духе той же интерпретации объекта и окружающего пространства. Судя по старым фотографиям, это были самые красивые и сложные его работы, но почти все они были уничтожены дождем, когда их по недосмотру оставили под открытым небом после посмертной ретроспективы скульптора, проходившей в 1916–1917 годах. В них скульптор инстинктивно нащупал ту истину, которую позже признали современные физики, например, Эйнштейн, какой бы эзотерической она ни казалась вначале: в конечном счете, вещество есть энергия. Задача скульптора отчасти состояла именно в том, чтобы найти материальную форму, которая символически воплощала бы это утверждение.
Боччони презирал современную скульптуру, называя ее подражательной, однообразной и грубой, "зрелищем варварства и неповоротливости". Однако он сделал исключение, например, для итальянца Медардо Россо (1858–1928 гг.), который, объяснил Боччони, "пытался расширить горизонты скульптуры, передать пластическими средствами воздействие окружающей среды и ее невидимых, воздушных связей с объектом". В отличие от более известных скульпторов своего времени, на которых сильно влияло прошлое, таких, как Константин Менье (Древняя Греция), Антуан Бурдель (готика) и Огюст Роден (итальянское Возрождение, и, прежде всего, Микеланджело), Россо был "революционным, очень современным, более глубоким и по необходимости ограниченным". К сожалению, его приверженность лепке, имитирующей легкие импрессионистские мазки, лишила его творчество "каких-либо признаков универсальности", и тем не менее он сделал большой шаг по направлению к тому, что Боччони называл "пространственной скульптурой".
Боччони был художником (не меньше, чем скульптором) и стремился создавать образы "универсальных вибраций", тем самым выходя за рамки привычных изобразительных установок импрессионизма. Он многое перенял у пуантилистов — Жоржа Сера и Поля Синьяка. Синьяк был по духу особенно близок футуристам как убежденный анархист, враг любого установленного порядка, а значит — сторонник идей Маринетти о ниспровержении всех и вся и о радикальных переменах. Некоторые из полотен Боччони, выполненные в традициях "дивизионизма" (так в Италии называли технику письма точками, восходящую к Сёра и Синьяку), по-видимому, намеренно создавались как иллюстрации к тем или иным пассажам футуристских манифестов Маринетти. "Мы будем воспевать рабочий шум, радостный гул и бунтарский рев толпы; пеструю разноголосицу революционного вихря в наших столицах" — писал Маринетти, и тут же Боччони создавал свою "Потасовку в галерее" (1910 г.), с ее шероховато написанным столпотворением фигур, дерущихся в ослепительном блеске стеклянных дверей кафе. Шедевром Боччони в дивизионистском стиле стало индустриальное полотно "Город встает" (1910— 1911 гг.), изначально называвшееся "Работа" и навеянное панорамой промышленной застройки предместий Милана. В картине доминирует фигура огромного красного коня, распадающаяся на клочья и пятна света. Конская упряжь голубым рогом агрессивно вздымается в центре композиции. Тяжеловоз рвется вперед на сдерживающих его канатах, маленькие на его фоне фигурки рабочих тянутся за ним с преувеличенной натугой, которая станет обычным местом в комиксах: отправной точкой из области "изящных искусств" здесь, наверное, стало "Воскрешение Лазаря" Тинторетто (Венеция).
Футуристы изобрели и собственную архитектуру, но единственный значительный архитектор-футурист так ничего и не построил. Его работы сохранились только на бумаге: маленькие, прекрасно выполненные проекты зданий, которые существовали только в воображении автора и так и не нашли заказчиков. Антонио Сант’Элиа родился в 1888 г., отважно пошел добровольцем на войну, восхваляемую Маринетти и его друзьями в качестве "единственной гигиены мира", и был убит во время атаки австрийцев при Монфальконе в Северной Италии летом 1916 года. Ему было 28 лет, и его смерть стала одной из непоправимых потерь, которые понесла культура за время Первой мировой, наряду с гибелью Франца Марка, Умберто Боччони, Августа Макке, Анри Годье-Бжеска, Гийома Аполлинера, Уилфреда Оуэна и многих других, чьих имен мы никогда не узнаем, потому что они погибли слишком рано, чтобы их талант успел раскрыться и оставить свой след.
Даже попытка увековечить его память окончилась неудачей. Сант’Элиа был похоронен на кладбище, которое он спроектировал для своего армейского подразделения — бригады Ареццо; это кладбище больше не существует, так что мы даже не знаем, где его могила. Художник-футурист Энрико Прамполини и главный архитектор итальянского рационализма Джузеппе Терраньи совместно создали на кладбище в Комо мемориал, посвященный Сант’Элиа и окончанию Первой мировой войны. (Каноническое здание Терраньи — Каза дель Фашио, или Дом Фасций — также находится в Комо, хотя после падения фашистского режима с его фасада убрали портрет Муссолини.) Мемориал воссоздает проекты Сант’Элиа, которые он создавал для более крупных зданий (электростанций, многоквартирных домов и заводов), но в крошечном масштабе, и потому не производит особенного впечатления. Для тех, кто изучал чертежи Сант’Элиа, многие из которых по размеру не превышают десяти—двадцати квадратных сантиметров, это не имеет значения: так как по ним ничего не было построено, эти рисунки сами по себе — лучший памятник ему.
Критики (особенно итальянские) приложили немало усилий и проявили немалую изобретательность, пытаясь размежевать идеи Сант’Элиа и взгляды Маринетти, и нетрудно понять, почему: толерантность Маринетти к Дуче, иногда доходившая чуть ли не до интеллектуальной влюбленности (хотя, в конечном счете, и обреченной), запятнала его репутацию в послевоенный период и бросила тень на всех его товарищей. Но Сант’Элиа погиб прежде, чем зародилась идеология Муссолини, и задолго до того, как ею увлекся Маринетти (это произошло в 1930-х). Нет никаких оснований предполагать, что Сант’Элиа вынашивал тоталитарную фашистскую идею или воплощал ее в своей архитектуре, хотя его проекты были определенно предназначены для массового использования. Пожалуй, его можно было назвать молодым социалистом. (Еще и сейчас некоторые критики, очарованные посулами радикального социализма, сплошь и рядом симпатизируют этой идеологии, отвергая фашизм, несмотря на то, что левые, прийдя к власти, могут оказаться — и оказывались — не менее жестокими гонителями свободолюбия, чем правые.)
Однако у Сант’Элиа действительно было с Маринетти нечто общее, а именно экстатическое сознание бесконечных возможностей современного города — мощного коммутационного узла информации, производства и творчества, социального машинного цеха, гудящего почти без участия человека. Когда мы смотрим на многоуровневые города, порожденные фантазией Сант’Элиа, с огромными ступенчатыми небоскребами, висящими в воздухе террасами, мостами и эстакадами, мы видим восторженное предвкушение архитектуры будущего:
Мы должны изобрести и перестроить футуристский город, подобный огромной стройплощадке, бурлящей, подвижной и динамичной в каждой своей части, и футуристский дом, похожий на гигантскую машинуСр. со знаменитой характеристикой, которую несколько позже дал дому Ле Корбюзье: "машина для житья" (прим.авт).. Лифты не должны больше забиваться, как черви-солитеры, в лестничные пролеты: напротив, сами лестницы, отныне бесполезные, должны быть упразднены, лифты же должны взбираться по фасадам, как змеи из стали и стекла. Дом из бетона, стекла и стали, без живописи и без скульптуры, богатый только врожденной красотой своих линий и объемов, необычайно уродливый в своей механической простоте <...> должен выситься на краю бурлящей бездны: улица не будет более расстилаться, как придверной коврик, на уровне привратницкой, она зароется вниз, под землю, на много этажей <...> соединенных между собой для необходимого сообщения металлическими переходами и скоростными лентами транспортеров. Необходимо упразднить декоративность.
Вряд ли даже сам Сант’Элиа мог бы рассказать, что должно было происходить в этих зданиях, описать помещение за помещением, функцию за функцией. Его проекты были чем-то вроде кинематографических грез Фрица Ланга — "Метрополисом"Фильм немецкого режиссера-экспрессиониста "Метрополис" (1927 г.) — научно-фантастическая антиутопия, самая крупнобюджетная картина в истории немого кино., доведенным до высшего уровня эстетической изощренности. Но они, как это часто бывает с бумажной архитектурой, несут в себе романтический заряд: в итальянской архитектуре не было ничего настолько мощного со времен фантазий Пиранези, также невоплощенных. Вероятно, если бы эти здания и были построены, они простояли бы недолго. С другой стороны, их быстрый износ и разрушение вряд ли огорчили бы футуристов, которым вообще нравилась идея временной архитектуры, отвечавшая их любви к скорости и переменам. Они с недоверием относились к "громоздким, долговечным, старомодным и дорогостоящим материалам". Они надеялись сделать архитектуру "строгим, легким и динамичным искусством", цитируя Умберто Боччони, хотя здания на рисунках Сант’Элиа часто выглядят массивными, как египетские гробницы. В 1914 г. Сант’Элиа заявил в своем манифестеНесмотря на то, что по-прежнему идут споры об авторстве д’Элиа, то есть о степени его участия и об именах его соавторов, очевидно, что без него "Манифест футуристской архитектуры" 1914 г. просто не мог бы существовать (прим. автора)., что "декоративная ценность футуристской архитектуры целиком зависит от природных качеств используемых в ней голых, то есть необработанных, или ярко окрашенных материалов", а такие материалы, как мы знаем благодаря бруталистским детищам Ле Корбюзье, очень быстро принимают безобразный вид. Но поскольку в те времена они существовали только в утопическом бумажном пространстве, проверить это было невозможно. Сант’Элиа не мог предвидеть их внедрения в области реальной архитектуры, поскольку умер намного раньше, чем это произошло, и на практике это, несомненно, вызвало бы у него отвращение. Идеи Сант’Элиа, по крайней мере, в том, что касалось отдельных зданий, усвоили и воплотили в вычурной, помпезной форме двое американских архитекторов в 1970–1980-х гг. — Хельмут Ян (в своих чикагских небоскребах) и Джон Портман, архитектор-застройщик, который создал гигантские отели с прозрачными стеклянными лифтами, снующими вверх и вниз в зрелищном круговороте (хотя это зрелище довольно быстро надоедает даже туристам в фойе).
Внимание футуристов привлекали не только искусства, вроде живописи, скульптуры, поэзии, театра и архитектуры. Поскольку футуризм претендовал на всеобъемлющее значение, на то, чтобы создать модель жизни будущего века, он должен был (на этом настаивал Маринетти) охватить и пищу. Пища не рассматривалась как нечто "второстепенное". Футурист был тем, что он ел, и это не следует понимать как шутку. Для начала это потребовало нового использования языка, который должен был стать полностью итальянским, не "испорченным" заимствованиями. Например, то, что большинство итальянцев называло "сандвичем", на жаргоне футуристов превращалось в traidue ("между-двух"). Не существовало больше баров: отныне они назывались quisibeves ("здесь-выпивают"), а за стойкой хозяйничали не бармены, а mescitori — "мешалы". Смешивали они не коктейли, а polibibite ("составные напитки"). Если футурист желал запрыгнуть в свой хрипящий, неистовый, ревущий, пердящий, пророческий шестицилиндровый "фиат" и съездить со своей девушкой за город, это называлось не "пикник", а pranzoalsole ("обед-на-солнце").
Но Маринетти и (возможно, в меньшей степени) его братьям-футуристам мало было просто поменять названия еды, что в любом случае никогда никому не удавалось, ни в Италии, ни в других странах (нечасто ведь услышишь, как люди заказывают "freedom fries"После того, как Франция в глазах американцев совершенно опозорилась со своей предательской политикой в отношении Ирака, в ресторане Конгресса США переименовали French fries (так в Америке называют картофель фри) во Freedom fries. Нельзя не добавить: под хохот всей страны (прим. автора).). Они решили изменить рацион итальянцев, изъяв из него pastasciutta, то есть макароны всех видов, которые отныне следовало предать забвению. Трудно представить себе более безнадежную затею! Во всей Италии паста — это священная еда. В Риме существует даже музей пасты, посвященный сотням ее разновидностей: от тончайших нитей, которые называют "волосами ангела", до больших пластин для timballiЛитавры (ит.), так же называется за свою форму круглая запеканка из макарон., запеканок, которые так любовно описал Джузеппе де Лампедуза в "Леопарде", от мелкой манной крупы размером с булавочную головку до мешочков из теста, которые начиняют рикоттой, шпинатом или пюре из цыпленка под соусом "бешамель". Это поистине универсальная и демократичная еда, такая же, как пицца и гамбургеры в Америке.
Сама мысль посягнуть на вещь, настолько тесно связанную с итальянским самосознанием, выглядела, вероятно, чем-то вроде культурного самоубийства. Но Маринетти ненавидел макароны. Он считал, что именно они сделали итальянцев толстыми, ленивыми, благодушными, глупыми и, что хуже всего, непригодными к строевой службе. Мэр Неаполя мог публично заявить, что vermicelli al pomodoro (то есть вермишелью с помидорами) питаются ангелы на небесах — Маринетти не было до этого дела. "Учитывая, что все развитие современной цивилизации движется в направлении уменьшения веса и увеличения скорости, кулинария будущего тоже должна стремиться к вершинам эволюции. Первым шагом в этом направлении станет изъятие макарон из рациона итальянцев".
Ненависть к макаронам зародилась у него во время службы на австрийской границе. "Футуристы, сражавшиеся под Село, под Вертоибиццей <...> могут подтвердить, что им приходилось есть отвратительные макароны, переваренные и превратившиеся в холодную, застывшую массу, потому что огонь противника отрезал бойцам доступ к полевой кухне. О горячей пасте al dente мы и мечтать не могли".
После ранения, полученного во время наступления у Загоры в мае 1917 г., Маринетти на носилках доставили в Плаву, где он наконец-то получил "чудодейственный куриный бульон <...> смертоносные австрийские ядра, время от времени сыпавшиеся на батальонную кухню, разнесли походную печку <...> Тогда у Маринетти появились первые сомнения в том, что паста годится для военного рациона". Он заметил, что артиллеристы, в горах палившие по австрийцам из гаубиц, даже не притрагивались к этой плебейской пище. Их обычный рацион составляли "куски измазанного грязью шоколада и иногда жаренная на сковороде конина, которую замачивали в одеколоне". Шоколад, одеколон, конина, эти готовые ингредиенты футуристских рецептов, в которых так важен был диссонанс, отход от привычных сочетаний, соединились в сознании Маринетти в общий образ "героической" еды.
В интервью, данном итальянскому журналисту некоторое время спустя, Маринетти бранил пасту на чем свет стоит: "Фу! Что за свинский корм эти макароны! Чтобы донести это до людей, картины, гравюры, фотографии, на которых они изображены, должны исчезнуть из наших домов; издатели должны забрать свои книги из магазинов и подвергнуть скрупулезной цензуре, безжалостно уничтожив любые упоминания о них <...> Через несколько месяцев от одного этого слова — "макароны, фу!" — людей будет бросать в дрожь. Задача это колоссальная. Чтобы уничтожить нечто, нужна всего одна рука, которая подожжет запал, но чтобы воссоздать это (т.е. кухню, отвечающую требованиям нового времени), потребуются тысячи и тысячи рук".
Другой журналист, писавший во французской газете Comœdia в начале 1930-х, вторил Маринетти, обвиняя макароны в "вялой сентиментальности", с помощью которой "вечный Рим, от Горация до Пандзини, бросает вызов течению времени <...> Сегодня нам нужно переделать современного итальянца — ведь что толку ему вскидывать руку в римском салюте, если он может без труда положить ее плашмя на свое тучное брюхо? У современного человека живот должен быть плоским <...> посмотрите на негров, на арабов. Цель гастрономического парадокса Маринетти — просвещение".
Чем же будут питаться итальянцы будущего? "Наша футуристская кухня, — провозглашает Маринетти, — приспособленная для высоких скоростей, как мотор гидроплана, покажется трепещущим традиционалистам и безумной, и опасной, но ее конечная цель — создать гармонию между гастрономическими вкусами человека и его жизнью: до настоящего момента люди питались подобно муравьям, крысам, кошкам или быкам. Теперь, с пришествием футуристов, рождается первый человеческий способ есть".
Так, "аэрохудожник" Филлиа (псевдоним туринского художника Луиджи Коломбо) предложил то, что он называл "аэрокушаньем": справа от едока на стол ставят блюдо с черными оливками, сердцевиной плода фенхеля и горьким апельсином. Слева кладут прямоугольник, покрытый наждачной бумагой, шелком и бархатом, который нужно гладить во время еды, наслаждаясь контрастом вкуса и текстуры. Пока он ест, официант сзади брызгает на затылок едока соароматом (conprofumo) гвоздики, в то время как из невидимого источника на кухне доносится грозный рев авиамотора — сошум (conrumore) — в сопровождении музыки Баха (dismusicaФутуристические трапезы сопровождались "соароматами" или "сошумами", соответствующими вкусу блюд или контрастирующими с ним "дисароматами" и "дисмузыкой".). Таким образом, все органы чувств едока задействуются для достижения полного экстаза. Другим изобретением Филлиа было блюдо "Возбужденный хряк". Этот безумный фаллический образ представлял собой целую палку салями, очищенную от кожуры и вертикально стоящую в сосуде с очень горячим черным эспрессо, сдобренным "изрядной долей одеколона". Третий деликатес именовался "Небесная охота". Сварите зайца до готовности на медленном огне в спумантеСпуманте — сорт итальянского игристого вина., смешанном с порошком какао. Затем окуните тушку в лимонный сок и подайте, обильно сдобрив зеленым соусом на основе шпината и можжевельника и украсив серебристыми драже, похожими на охотничьи пули. Другой "аэрохудожник" Энрико Прамполини разработал подробный рецепт блюда, которое он назвал "Экватор + Северный Полюс". В "экваториальном море" из золотисто-желтых яичных желтков высится белоснежный айсберг из взбитых до твердости белков, его верхушка осыпана кусочками черного трюфеля в форме "черных аэропланов". Это блюдо, по крайней мере, еще выглядит относительно съедобным, в отличие от кулинарно-эротической метафоры, которую предложил весьма незначительный футуристский арт-критик П. А. Саладин, назвав ее "Мужчина-женщина-полночь". Сделайте большую лужу из красного сабайона. В середине его положите "добрый кружок репчатого лука", пронзенный засахаренным стеблем дудника, по бокам украсьте двумя засахаренными каштанами, предположительно символизирующими coglioniЯйца (ит.). полуночного любовника.
Все эти блюда, а также несколько других, не менее причудливых, подавались на футуристских вечеринках, которые Маринетти устраивал в Риме и не только. Неизвестно, пользовались ли они успехом, и можно предположить, что немалая часть гостей тайком вздыхала по доброй тарелке спагетти под соусом болоньезе. Тем не менее у футуристов даже был одно время свой ресторан под названием "Santopalato", или "Святое нёбо", находившийся в Турине, по адресу Виа Ванкилья, 2. Просуществовал он недолго, однако там можно было отведать такие постиндустриальные деликатесы, как, например, "Цыпленок-фиат": большого цыпленка сперва отваривали, затем начиняли стальными шарикоподшипниками и жарили до тех пор, пока его мясо не "пропитается запахом стали"; тогда его следовало украсить взбитыми сливками и подавать, причем делать это предпочтительно должны были "женщины будущего": лысые и в очках. Ресторан "Святое нёбо" не был коммерчески успешным, но Маринетти некоторое время содержал его из идеологических соображений. Главное блюдо в его меню, которое часто подавалось и в Риме, на вечеринках футуристов, называлось "Мясопластика" — la carne scolpita. Оно представляло собой большую цилиндрическую рубленую котлету из телятины, начиненную одиннадцатью разными вареными овощами. Что-то должно было склеивать всю конструкцию (возможно, очень густой соус бешамель?), иначе она бы развалилась, но что именно, не сообщалось. Котлета стояла вертикально на тарелке, опираясь на кольцо из сардельки, в свою очередь, покоящееся на трех золотистых сферах из курятины. Все это покрывалось сверху слоем меда и объявлялось "синтетической интерпретацией итальянских пейзажей".