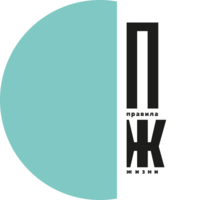Выгребной канал
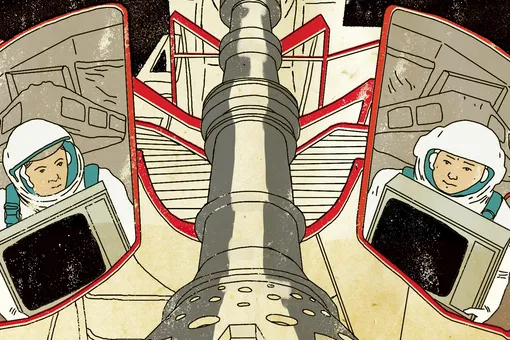
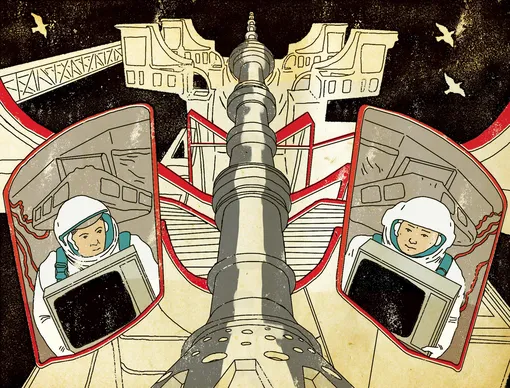
Люди с телевидения, с Первого канала, с «России», с НТВ, никогда не будут ради собственного удовольствия смотреть то, что сами производят. Режиссеры, операторы, сценаристы, корреспонденты — все в один голос это говорят. Телевизионные профессионалы, они потребляют исключительно принятую в их кругу хорошую литературу и смотрят только хорошее кино. То есть получается, что есть кто-то другой, для которого можно производить дрянь. А есть мы, которые совсем другое потребляем. У нас и одежда не с рынка, и поездки не в Хургаду. Вообще, отделение себя от других — это называется фашизоидностью. Такое восприятие провоцирует разделение общества на чистых и нечистых, где мы всегда остаемся чистыми, а они — нечистыми. Телевизионщики обычно на это отвечают: не нравится телевизор — выключи. Но как выключить, если в провинции телевизор — это едва ли не единственный доступный способ развлечения и единственный способ получить информацию из большого мира? Мы (аналитический центр Юрия Левады. — Правила жизни) ежемесячно делаем опросы. 90 процентов населения смотрят телевидение каждый день по 3–4 часа, а по выходным по 4–5 часов. То есть практически все свободное время. При этом совершенно не значит, что смотрят с восхищением, — напротив, смотрят скорее с неудовольствием, недоверием, и постоянно брюзжат по поводу увиденного. Кстати, этот модус очень интересен: не нравится — но смотрю, не доверяю выборам — но участвую в них (чтобы хуже не было), не нравится страна — но живу (и не позволяю другим ее критиковать). Это модус жизни людей, которые не до конца управляют собственной жизнью, а может, и вообще не управляют. При этом объединяет людей отрицание. Мой коллега Лев Гудков про это целую книжку написал — «Негативная идентичность». Как в России построено то, что социологи называют коллективной идентичностью? На противопоставлении тем, кто не мы, — по этническому признаку, политическому. Этими «они» могут быть люди успешные, евреи, китайцы, может быть человек, снимающий у тебя на лестничной клетке квартиру. Похожий механизм действует и среди телезрителей. Представьте ситуацию: он, она придет на работу, а там кто-то скажет: «Матвеевна, а ты вчера 23-ю серию смотрела?» Если скажет «нет», то сразу окажется чужой. При этом нужно понимать, что есть общества, где существует презумпция того, что другой человек — он не чужой. В парижском, лондонском метро тебя не расталкивают злобно локтями, а наоборот: помогут выйти или войти, если ты замешкался. У нас же в обществе изначальная установка: все чужие. И требуется очень большое время, чтобы стать своим. От одного редактора с канала «Россия» как-то услышал такую фразу. У них внутри редакции существует своя внутренняя шкала, извините, дерьма. «Петросян, — сказал он, — это допустимое для нас дерьмо, а программа "Максимум" с НТВ — до такого мы уже не опустимся». В курилке у них все стоят и говорят: ну какое же мы сейчас дерьмо в новости поставили, какое — вчера. При этом он подтверждает, что все прекрасно понимают, что они делают, в том числе и Добродеев (Олег Добродеев, глава ВГТРК. — Правила жизни). Несмотря на это считается, что работа на телевидении — это успех. Работая на телевидении ты чувствуешь, что находишься в центре жизни. Как сказала одна девушка с ТНТ: «Телевидение для нас — уход от реальности. Телевидение — это по крайней мере живой организм. Мы и позволяем нами пользоваться». Вот это очень важно: насыщенность жизни как компенсация за то, чем ты вынужден заниматься. Важнейший для меня признак современного времени — дикая трудоголия, доведение себя до состояния полного исступления и сумасшествия на работе. Это делается для того, чтобы сохранить вот это ощущение: в жизни все кипит. Ты бежишь, бежишь, бежишь. Как на велосипеде: пока крутишь колеса — едешь.
Не в первый раз такое происходит — покупка на насыщенность и наполненность жизни. В начале 1930-х, когда переламывали хребты советским интеллектуалам, Виктор Шкловский писал о том, что аэросани могут преодолеть большую полынью только на скорости. Его общество по изучению поэтического языка, которое первым в России поставило перед гуманитарными науками настоящие теоретические проблемы, — они пришли в науку и литературу как революционеры (кстати, молодые телевизионные профессионалы тоже говорят, что, закончив институты, они шли на телевидение делать революцию, улучшать его — а попали на завод, который их перемолол). Но скоро почувствовали, что время схватывается, как цемент, что люди, журналы ориентируются вовсе не на новое. И сегодня есть это ощущение — что все уже схватилось. В 1990-х какие перспективы открывались, какие тогда были свободы — сейчас нет и сотой части. Власть перестала представлять свои задачи и свою работу в терминах пути к чему-то. Стабилизация — вот ключевое слово 2000-х. Нормализация. Укрепление вертикали. Порядок. Одновременно начали монополизировать и вычищать средства массовой коммуникации. В «Известия» посадили партийного человека на руководство, «Комсомолку» купил Газпром, «Коммерсант» тоже продан. Конечно, это связано с предстоящими выборами. Но не только. Устраняются какие-либо другие точки зрения на будущее, возможности полемики. Какая полемика, если вторые и третьи люди в государстве объявляют, что все, кто ведет полемику, — это пятая колонна и шпионы? Власть, этот наш небосвод, занята сейчас успокаиванием: все в порядке, Россия — нормальная страна. У нас стабильность, России наконец-то возвращено место в большом мире, мы входим в «Большую восьмерку». И у средств массовой информации сегодня такие же задачи: они занимаются умиротворением, уверяют, будто все в порядке. Отсюда и юмористические передачи, эстрада, Петросян. Вернулось слово, которое, я думал, навсегда ушло из масс-медиа: позитив. Надо давать позитив, говорят. Сколько можно критиковать? Хотя, на мой взгляд, задача СМИ даже не в том, чтобы критиковать — а чтобы понимать и разбираться.
Молодой сценарист с СТС рассказал, как рассуждают его друзья: «Года два-три буду подстраиваться, вписываться в формат. А потом, когда у меня будет уже авторитет, я буду только два дня в неделю заниматься мерзостью — остальные пять буду уже заниматься тем, что мне нравится: снимать кино, писать настоящие сценарии, книгу». То есть объяснение такое: с вами работаю не я, а моя — назовем это так — кукла. Но только, как говорили в фильме «Доброй ночи и удачи», «если ты крякаешь, как утка, и ходишь, как утка, — ты и есть утка». Это очень распространенная ситуация. Вот мы с вами открываем издательство и планируем так: издадим пять бестселлеров, которые продадутся хорошим тиражом, а потом на эти деньги начнем издавать любимых авторов. Но есть железный закон: тактический курс на понижение всегда становится стратегическим курсом. И нельзя уже вернуться к тому типу отношений, установок, с которых вы начинали. «Помнишь, мы же договорились на один только сезон издавать дерьмо?» — «Да подожди, давай еще денег заработаем». И пошло. Социальные отношения необратимы. И возможности вернуться к своим прежним стремлениям уже нет. Нельзя сделать выбор, а потом притвориться, что этого не было. Интересно, что многие сотрудники центральных каналов посмотрели фильм Клуни «Доброй ночи и удачи» (фильм о группе тележурналистов, которые отстаивают свободу слова в эпоху маккартизма. — Правила жизни). Все тот же редактор с «России» сказал: «Если такой сильный человек, как этот журналист Эдвард Мюрроу, и найдется — никто его не поддержит. Я знаю: в курилке — это одно, там можно сколько угодно обсуждать, какую фигню мы показываем. Но если я это скажу открыто — никто из них меня не поддержит». Власть дует сейчас все в ту же дудку: не допустим раскачивать лодку, мы должны сплотиться вокруг нашего вождя, вокруг нашего президента. Выстраивается закрытая система — вот почему 95 процентов всех наших объединений — пусть это новый университет, журнал, социологическое общество — становятся подобием этой системы, закрытой консервной банкой. И существовать они могут, только если закрыты. Откроются — эта организация исчезнет. Не откроются — начнут гнить изнутри. Сейчас существует только искусственный уровень объединения: у нас богатая история, мы победили в войне, у нас есть Пушкин, а у других нет, и так далее. Одновременно есть и другие «мы» — маленькие, бесправные, которые ничего не могут и ни на что не влияют. Это хитрое раздвоение, позволяющее ускользать от однозначности выбора и от ответственности, составляет жизненную стратегию человека в России — будь он в пиджаке Brioni или в гимнастерке. Я сейчас читаю книжку замечательного композитора Владимира Мартынова. У него такая идея: великая музыка осталась в прошлом, мы живем в эпохе «пост». Это идет от ощущения конца времени композиторов, конца мира, конца истории.
Люди живут теперь только в коротком времени — не ставят себе дальних целей, устраняют со своего горизонта те вещи, те значения, образцы и формы поведения, которые или уходят в прошлое, или чреваты какими-то последствиями в будущем. Это ощущение поствремени присутствует везде — даже в женских журналах: сегодня ты можешь быть Одри Хепберн, завтра — домохозяйкой, послезавтра — отвязной девушкой. Видимо, закончилось время устойчивого общества с четким устройством. Быть Хепберн невозможно в реальном мире — но можно в виртуальном, который вам не сопротивляется, который вы с помощью своей фантазии можете переворачивать, изменять — с ним ничего не произойдет. Я бы его назвал симулятивным миром. Симулятивный продукт не рвется, об него невозможно обрезаться. В этом мире можно многое: проиграть, попробовать то, на что ты не решаешься в повседневной жизни. И главное — тебя здесь не ждет вина, раскаяние и всякие такие штуковины. И нас начинают окружать все больше и больше таких миров — не только телевидение.