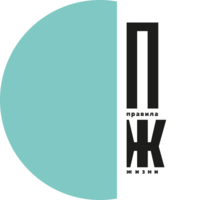Музей-блокбастер: как галерея Тейт Модерн в Лондоне превратилась из объекта ненависти в самый популярный музей современного искусства в мире

Тейт Модерн — cуперзвезда среди музеев. Но так было не всегда — сразу после открытия в мае 2000 года критики возненавидели галерею. «Пошлые концепции, навязанные зрителю в достаточно авторитарной манере, — все это раздражает и к тому же не сочетается между собой» — в таком презрительном тоне отзывался о новом музее The Burlington Magazine, уважаемый старый журнал об искусстве. «Отсутствие всякой сквозной темы сбивает с толку... И не в том смысле, что это какой-то новый взгляд, — нет, нам предлагают просто бесцельно бродить из зала в зал, как бы по игровой площадке, устроенной кураторами».
Критикам не понравилось расположение галереи (грязноватый район на южном берегу Темзы), не понравился проект (бывшая электростанция, причем большая часть интерьера осталась в первозданном виде); наконец, им не понравилась первая же временная экспозиция — вернее, она привела их в бешенство. Выставка Century City была посвящена актуальному искусству разных городов мира. «Раздел, посвященный Лагосу, сделан настолько слабо, что чувствуешь себя империалистической, колониалистской, расистской свиньей», — писал The Guardian. Больше всего критиковали композиционное решение (экспонаты были сгруппированы по темам, а не по временным периодам) и долю незападного искусства. Справедливости ради, кураторы Tate Modern ожидали возмущения, но были убеждены, что их способ делать выставки справедливее к художникам и интереснее.
Франсес Моррис, нынешний директор Tate Modern, наблюдала эту историю своими глазами. Она вспоминает: «Мы действительно считали, что может получиться отлично, но не были уверены, что публика и пресса встанут на нашу сторону. Критики, естественно, нас возненавидели. В конце концов они одумались, но это заняло у них 15 лет».
А вот публика, напротив, сразу включилась в игру — Tate Modern только в первый год посетили 5,25 млн человек, и галерея, таким образом, стала самым популярным в мире музеем современного искусства. Эко Эшун (в 1980-х директор Института современного искусства, а сейчас независимый куратор) замечает: «Это, в свою очередь, привлекло в Лондон новые галереи и привело к расширению лондонского рынка искусства, в начале 2000-х глубоко провинциального. Можно сказать, что создатели Tate Modern взяли чуть-чуть художественной теории из 1970-х и превратили ее в рынок на 10 млрд фунтов».
В мае 2020-го исполняется 20 лет с тех пор, как Tate Modern распахнула для всех желающих свои огромные стеклянные двери. В прошлом году, как бы для того, чтобы подчеркнуть значение будущего юбилея, галерея свергла Британский музей с пьедестала самого популярного развлечения страны, поставив рекорд в 5,9 млн посетителей. Кроме того, Tate Modern на пятом месте среди самых популярных музеев планеты (сразу после Ватиканского; на первом месте — традиционно Лувр) и намного опережает любой другой музей современного искусства.
Влияние и репутацию Tate Modern тяжелее измерить в точных цифрах, но оно тоже огромно. Обычно музеям тяжело бить рекорды посещаемости и одновременно экспериментировать, делая новые, знаковые вещи. Новаторство важно, потому что лучшие художники и коллекционеры хотят выставляться в интересных и влиятельных музеях; помимо утоления интеллектуального голода новаторство делает искусство дороже. Tate Modern удалось совместить революцию и массовость. Таня Бругера, кубинская художница и академик, говорит, что «Tate Modern превратился в институцию, задающую тон глобального диалога среди художников».
Это смутное чувство посещает вас в просторных гудящих от негромких разговоров залах, прилегающих к знаменитому Турбинному. То же ощущается в служебной части галереи, где в самом разгаре подготовка к блокбастеру сезона — выставке Энди Уорхола, разрушающей все стереотипы. При этом штаб-квартира Tate Modern выглядит довольно обычно: если бы не груды плакатов, книг и журналов, ее можно было бы перепутать с офисом досугового центра (из тех, что подороже). Но вот ресепшен выделяется на общем фоне — это своего рода минималистичный бар, стены которого украшают белоснежные постеры с ярко-красным текстом:
Что нужно делать, чтобы работать лучше:
1. Занимайся чем-то одним.
2. Пойми поставленную задачу.
3. Учись слушать.
4. Учись задавать вопросы.
5. Отличай важное от мусора.
6. Принимай трудности как неизбежность.
7. Признавай ошибки.
8. Объясняй проще.
9. Сохраняй спокойствие.
10. Улыбайся.
Сейчас на каждый юбилей Tate Modern принято писать глубокомысленные тексты о том, как галерея с момента своего открытия «изменила страну». Вне всяких сомнений, галерея Тейт Модерн поменяла многое, но чтобы понять, что именно и каким образом, нужно вернуться назад гораздо дальше, чем в 2000 год. Первая галерея Tate, основанная на 80 тысяч фунтов, пожертвованные сахарным магнатом и страстным коллекционером Генри Тейтом, открылась в лондонском районе Пимлико в 1897 году. Среди экспонатов было в основном современное британское (то есть викторианское) искусство, но в 1915-м Tate начала покупать иностранных художников, собрав в конце концов две коллекции современного искусства: одну — британского, одну — иностранного. К началу 1970-х стало ясно, что место для непрерывно растущей коллекции закачивается. В 1979-м и 1987-м здание расширяли, в 1988-м открыли филиал в Ливерпуле, в 1993-м — еще один, в корнуоллском Сент-Айвз. Проблема с нехваткой места до некоторой степени решилась, но амбиции кураторов Tate простирались куда дальше.
До начала 1960-х галереи были устроены просто: художник создавал предмет, изображающий что-нибудь, — например, портрет или, скажем, скульптуру летящей птицы; куратор вешал творение на стену или ставил на постамент. Посетители — обычно средних лет, по большей части из среднего класса — приходили на все это посмотреть, а потом шли домой, культурно обогатившись. В 1960-е кураторы впервые задумались: как процесс создания и демонстрации искусства можно сделать более увлекательным? И как привлекать не только средний класс? И нельзя ли сделать так, чтобы зритель взаимодействовал с искусством? Радикальные художники и кураторы начали создавать и демонстрировать объекты, вокруг которых можно было ходить, которые можно было трогать, устраивать перформансы. Многие художники хотели отказаться от дидактического подхода и предлагали зрителю подумать о том, что искусство значит для него лично.
Часто такое искусство было чудовищно плохим; часто — наоборот, вдохновляло целые поколения молодежи. Эти зрители продолжали помнить о нем, изучая искусство в университетах — и позже, когда становились, например, кураторами Tate.
Закончив бесплатную школу в южном Лондоне, Франсес Моррис в 1970-х изучала искусство в Кембридже, а к 1987-му стала куратором современной коллекции в Tate. В то время, по ее описанию, в арт-мире «модель, в которой есть официально признанные художественные институции, навязывающие свое авторитарное видение, а есть новаторы, которые должны бросить им вызов, начинала разрушаться».
Франсес вспоминает: «Тогда все чувствовали, что принципы, на которых построены музеи, пора менять, а новое поколение кураторов было уверено, что что-то должно произойти. В 1980-е нам в Tate уже было понятно, что место заканчивается, но, кроме того, у нас еще были амбиции — мы хотели создать для аудитории новый опыт. Был общий план, который предполагал, что нельзя держать все сразу в столице и что посетитель не должен быть только пассивным потребителем искусства».
Термины вроде «пассивный потребитель искусства» звучат сухо, но Моррис хотела, чтобы взаимодействие зрителя с искусством было человечным и живым. Она говорит, что ее «восхищала и волновала» мысль о том, чтобы создать музей, куда пошли бы семьи, обычно не интересующиеся искусством. «Я представляла себе, как они впервые пересекают эту черту, представляла этот переломный момент. Им не обязательно было даже понимать, чего хочет от них художник».
Примерно в такой атмосфере в Tate в 1988-м пришел новый директор Ник Серота, еще один ветеран гуманитарных исследований 1970-х. Серота был лондонским либералом; его мать одно время занимала должность министра здравоохранения в правительстве Гарольда Уилсона. Серота заработал себе имя в лондонской Whitechapel Gallery, где выставлял авангардное современное искусство и руководил расширением помещений. Еще 1969-м Серота — тогда ему было двадцать с небольшим — стал председателем новой организации, «Молодых друзей Tate». Именно он стоял за проектом преобразования пустующего здания в Южном Лондоне в лекционный центр и своего рода художественный колледж — проект продолжался, пока не вмешался попечительский совет Tate.
Много позже Серота и попечители пришли к соглашению: галерею нужно расширять, но в другом здании, где будет достаточно места для обеих коллекций, иностранной и британской. Молодой куратор хотел не только найти пространство для искусства, но и место для экспериментов в области искусства — он считал, что выставки должны менять восприятие публики. Для этого необходимо было здание гораздо большего размера. Выделив иностранное искусство в отдельную коллекцию, попечители надеялись выразить открытость миру — что было неоднозначным шагом в городе, где только закончилась замкнутая на себе эпоха бритпопа.
Вскоре подвернулся удачный случай: Национальная лотерея, запущенная в 1993 году, сопровождалась программой восстановления исторических зданий — общественные организации, желавшие получить такое здание в пользование, могли обратиться за финансированием. Серота увидел здесь удобную возможность и вместе с попечителями принялся за поиск подходящего здания.

Вскоре они нашли электростанцию Бэнксайд. Она была построена в 1940-х по проекту сэра Джайлза Гилберта Скотта, в 1981 году была закрыта и теперь медленно ржавела на южном берегу Темзы. Серота знал, что художники любят старую промышленную архитектуру — пространства в таких зданиях выглядят интереснее, а ощущение подлинности вселяет уверенность. «Художники — рабочие, искусство — это работа, — говорит Мирослав Балка, поляк, в проекте How it is, превративший Турбинный зал в глубокие темные пещеры. — Люди часто об этом забывают. Вот почему промышленные корни Tate Modern были важны».
Галерея купила электростанцию в 1994 году на полученные от лотереи 50 млн фунтов — недостающие 83 млн собрали благодаря частным пожертвованиям. Архитекторы — малоизвестная тогда швейцарская фирма Herzog & de Meuron — оставили большую часть интерьеров в первозданном виде. Это было заявление в духе времени. В то время правительство Тони Блэра, избранное в 1997-м, отстаивало идею новой креативной экономики, которая должна подняться из пепла экономики индустриальной. Tate Modern это было близко. «Когда-то здесь была электростанция, наполнявшая город энергией, — вспоминает настроения тех лет Дональд Хислоп, глава комьюнити-проектов Tate. — Музей тоже должен был наполнить город энергией, только творческой».
«В этом и был смысл, — говорит Эшун, — всех этих голых кирпичных стен и обнаженных стальных балок, которые как раз после Tate Modern стали модными и ушли в народ. Трансформация будущего на основе творческого, изобретательского начала... и отличной мебели».
Попечители наняли руководителя проекта (Дона Оствика из бухгалтерской компании KPMG) и трех кураторов (Моррис, Каро Хоуэлл — специалиста в области образования — и Ивану Блэзвик, в то время только открывшую никому не известного художника по имени Дэмиэн Херст и устроившую ему первую выставку). Команде сняли офис на улице Джона Ислипа, за зданием Tate Britain. Рынок искусства тогда выглядел совершенно по-другому. Лондон был самой крупной из мировых столиц без своего музея современного искусства. В городе было всего несколько коммерческих галерей. Такие художники, как Херст и Трейси Эмин, уже начали привлекать к городу внимание, но мысль о том, что в смысле искусства Лондон когда-нибудь сравнится с Парижем или Нью-Йорком, все равно выглядела смехотворной.
«Честно говоря, здесь была деревня, — вспоминает бывший заместитель главного редактора журнала Frieze Дэн Фокс. — Лондонская арт-сцена постепенно становилась более интернациональной, но многие художники застряли в провинциализме эпохи бритпопа, и это быстро надоело».
Ахим Борхардт-Хьюм, сейчас руководитель выставок в Tate, а до того куратор модернистского и современного искусства, отмечает что «британская культура была скорее текстовой, чем визуальной» и что верхушку мира искусства составляли писатели. «Современное искусство» воспринималось в первую очередь как нечто скандальное, созданное для того, чтобы вызывать шумиху в желтых газетах, получив премию Тёрнера».
Первое, что сделала новая команда, — начала налаживать связи с художниками из района Бэнксайд. Второе — придумала первые несколько выставок. Третье — разработала методы, лучше всего подходящие для того, чтобы представить зрителю всю коллекцию Tate Modern. Позже эти методы дадут музею его легендарную репутацию и в принципе поменяют глобальное восприятие современного искусства.
Часто считается, что искусство — это в первую очередь про какие-то вневременные смыслы и истины, но на практике наш взгляд на искусство в значительной степени сформирован тем, как оно нам представлено. В 1930-х общественное мнение о современном искусстве формировал куратор по имени Альфред Барр, возглавивший по просьбе богатой светской львицы и коллекционера Эбби Рокфеллер нью-йоркский MоMA.
В то время большинство критиков не воспринимали современное искусство (Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог) всерьез; оно выглядело странно, стиль все время менялся, так что как было понять, что в нем вневременное, а что — просто мода? Барр изменил это положение, придумав свою знаменитую схему эволюции искусства от реализма XIX века к современному абстрактному искусству через такие формы, как экспрессионизм, кубизм и футуризм. Неважно, что на самом деле художники не думали о своей работе в таких терминах, — зато теперь происходящее можно было объяснить в двух словах на вечеринке.
Схема украшала обложку каталога выставки «Кубизм и абстрактное искусство», открывшейся в MоMA в 1936-м. Она очень сильно льстила Америке и современности вообще — получалось, что вся история искусства вела именно к этому моменту (в конце концов обаянию современного искусства поддалось даже ЦРУ — во времена холодной войны спецслужбы вкладывали большие деньги в модернизм и абстракционизм, надеясь использовать их для пропаганды). Арт-дилерам и коллекционерам такой подход помог увеличить стоимость своих коллекций — теперь предметы искусства можно было разбить на четкие, понятные категории. «Авиньонские девицы» Пикассо выглядели странно, но кого это волновало после того, как Барр объявил, что это «картина, с которой начался кубизм»?
Барр ушел на покой в 1967-м. К этому моменту ему удалось превратить MоMA в самый влиятельный музей мира. Благодаря ему музеи превратились из места, где висели картины, в места, где публика училась их смотреть. Примеру MоMA последовали музеи по всем миру. Выставки стали устраивать, подчеркивая плавный, последовательный переход от одного стиля к другому: большинство из нас представляет себе искусство как цепочку -измов, потому что примерно так же мы воспринимаем остальную культуру.
В офисе новой команды Tate ее воспринимали по-другому. Даже если предположить, что искусство развивалось подобным образом, нельзя не отметить, что Барр рассказал только одну историю — историю белых западных мужчин. После Второй мировой войны в обществе все чаще стали признавать, что огромная часть важного, интересного искусства была создана людьми, не попадавшими ни в одну из перечисленных категорий. Моррис вспоминает: «И вот мы открывали новый музей, музей XXI века, и это была возможность пересмотреть всю модель целиком. Мы договорились, что это будет своего рода фундаментальный принцип — что в начале XXI века нельзя, да и не нужно, да и не хочется рассказывать всего одну историю искусства. У нас была миссия». Миссия заключалась в том, чтобы победить модель Барра. Год команда обдумывала свои идеи, а потом представила Сероте концепцию — группировать работы не по эпохам, а по четырем темам: обнаженная натура/действие/тело; натюрморты/объекты/реальная жизнь; история/память/общество; пейзаж/материя/окружающая среда. После пары мелких поправок Серота одобрил идею. Такой подход, помимо всего прочего, позволял отвлечь внимание публики от хронологических пробелов в коллекции. В здании было четыре основных пространства, и так как большинство посетителей обычно делают перерыв раз в 15 минут, на эти четыре пространство должно было уходить где-то полдня.

Еще год ушел на то, чтобы посвятить в идею всех кураторов и решить, какие экспонаты к какой категории отнести. Открытие было успешным — Дэн Фокс до сих пор вспоминает, как на следующий день команда Frieze восторженно обсуждала все случившееся, и особенно размер Турбинного зала. Но критикам не понравилось — не понравился новый метод развески, не понравилась первая выставка. У публики, однако, было совсем другое мнение.
«Людям нравилось говорить о том, почему экспонаты сгруппированы так, а не иначе, — говорит Моррис. — Им нравилось собирать и разбирать искусство у себя в голове, нравился ужас, который они испытывали при виде Клода Моне рядом с Ричардом Лонгом. Это было как встречаться со старыми друзьями — и одновременно открывать что-то новое».
Новая команда рассчитывала на 2 млн посетителей ежегодно, но в первый же год работы пришло в два раза больше. Это вызвало шок; пришлось срочно ремонтировать изношенные лестницы, расходников не хватало. Нужно было перезаключить контракт на поставку туалетной бумаги — годовой запас израсходовали за несколько месяцев. Но настоящий сюрприз ждал кураторов на следующий год — предполагалось, что цифры упадут, но они не упали. «Мы часто про это шутили, — говорит Хислоп. — Спрашивали друг друга, когда закончится медовый месяц. В смысле, когда посетителей станет меньше. Но медовый месяц так и не закончился».
«Мы, конечно, знали, что к нам придут люди, — вспоминает Моррис. — С крыши, например, открывался великолепный вид, и было такое ощущение, что мы открыли целую новую область Лондона. Но потом стало ясно, что дело не только в этом и что британская публика действительно интересуется современным искусством».
Почти 20 лет спустя, в 2019-м, принцип развески, придуманный в Tate Modern, наконец победил окончательно — в MоMA реорганизовали коллекцию похожим образом, одновременно добавив в экспозицию больше работ небелых, незападных художников. «Когда имеешь дело с институцией, — говорит Мирослав Балка, — полезно представлять себе ее душу. Душа Tate Modern — Турбинный зал. Пространство, которое принадлежит рабочим».
Турбинный зал, огромный, похожий на пещеру вестибюль Tate Modern, известен специально заказанными для него инсталляциями, которые накопились там за годы: стольные ящики Балки, «Марсий» Аниш Капур и Сесила Бальмода, «Тестовая площадка» Карстен Холлер. Поначалу здесь вообще не собирались ничего выставлять — предполагалось, что вестибюль будет своего рода дорогой, по которой посетители будут переходить из зала в зал.
Tate Modern довольно рано начала заказывать работы художникам, но никто не ожидал, что The Weather Project Олафура Элиассона превратится в такой феномен и настолько ярко продемонстрирует основные ценности Tate Modern. Инсталляция представляла собой зеркало на потолке и полусферический желтый светильник, так что получалось нечто вроде висящего под потолком солнечного шара. Художник добавил немного тумана, но на этом все заканчивалось. Перед открытием сотрудники галереи опасались, что посетителям будет скучно.
Затем люди начали экспериментировать и смотреться в это зеркало. Элиассона поразило, насколько изобретательно они это делали: «Я думал, они будут просто смотреть вверх, но они ложились, катались по полу, размахивали руками. Кто-то принес надувное каноэ. Приходили группы по йоге и странные секты. Когда приехал Джордж Буш, люди составили из своих тел на полу фразу "Буш, убирайся домой!" — отзеркаленную, так, чтобы она читалась. Мне понравилось, как все это в конце концов превратилось в историю про связь между телом и мозгом. Я такого не предполагал».
Weather Project стал сенсацией, которую невозможно было не посмотреть. Люди сидели под зеркалом и болтали с незнакомцами со всего мира, канал BBC устроил там студию и неделю транслировал оттуда прогнозы погоды. Одна болгарская пара так впечатлилась, что назвала свою дочь Tate. Лайонел Барбер, бывший издатель Financial Times и председатель попечительского совета галереи, вспоминает: «Турбиный зал и The Weather Project создали новую форму гражданского пространства. Я работал в этом районе 35 лет, потому что там расположен офис Financial Times, и видел, как галерея его преобразила. Это было нечто новое».
Барбер говорит, что масштаб Турбинного зала, его популярность у посетителей — одна из причин, по которой галерея нравится инвесторам. Только войдя внутрь, они уже «чувствуют, что происходит какое-то приключение, в котором им хотелось бы участвовать». Кроме того, современные топ-менеджеры любят организации, у которых есть сложные идеи о комплексных проблемах, потому что топ-менеджеры сами сталкиваются с комплексными проблемами. «Технологии меняют мир. О проблемах климата говорят все чаще. Менеджмент должен, кроме своей работы, думать об инклюзивности и равенстве. Музей открывает в этом плане новые перспективы, и бизнес хочет быть к ним причастен. Tate Modern удается одновременно быть глобальным явлением и сохранять тесную связь с локальным комьюнити, и в этом бизнес тоже очень заинтересован».
Это отчасти объясняет, почему многочисленные членские программы и программы пополнения фондов Tate, созданные для того, чтобы коллекция могла продолжать расти, настолько успешны. Цены на искусство выросли в последние два десятилетия настолько, что музеям стало тяжело покупать все, что им необходимо купить. Tate решает эту проблему за счет отдельных зон, поездок за рубеж и закрытых вечеров для участников членских программ (и в немалой степени за счет сувенирных магазинов). Огромную роль играют и крупные пожертвования от богатых филантропов (например, украинский миллиардер Леонард Блаватник выделил 50 млн фунтов — самое крупное пожертвование в истории британских музеев — на организацию выставки в 2016 году).
Еще один род бизнесменов, которых привлекает Tate, — владельцы частных галерей. Галеристы начали прибывать в Лондон еще в девяностые; в 2003-м на них оказал заметное влияние успех Frieze Art Fair. Но нет никаких сомнений в том, что именно Tate Modern собрала в городе такие галереи, как Gagosian (2000), Hauser & Wirth (2003), и таких признанных коллекционеров, как Дэвид Цвирнер. Это, в свою очередь, подстегнуло аукционные дома, которые по-настоящему заинтересовались живыми художниками только в самом конце 1990-х.
«Кроме престижа Tate Modern была интересна галеристам и коллекционерам с точки зрения экспертизы, — говорит Эшун. — Коммерческие галереи предпочитают работать в городах, где рынок считается изысканным и привлекает, таким образом, покупателя. Но не менее важно, чтобы в городе существовало экспертное сообщество — это увеличивает шанс того, что выставленную вами работу похвалит серьезный профессионал и ее цена вырастет. Tate Modern создала для города своего рода эталон в области амбиций, этики и эстетики. Благодаря интернациональности и актуальности галереи город выглядел открытым миру».
В начале девяностых Лондон не играл в сфере искусства никакой заметной роли. Все, что здесь существовало, — несколько коммерческих галерей в Мэйфэйре и Шордиче. Теперь лондонский рынок искусства — второй в мире после нью-йоркского и оценивается в 10 млрд фунтов в год. Этот успех, разумеется, нельзя приписать одной организации, но Tate Modern сыграла в нем заметную роль.
«Благодаря Tate Modern Лондон приобрел репутацию города богатых, образованных, свободомыслящих людей, — замечает Эшун. — То есть ровно такую репутацию, которая привлекает коллекционеров и галеристов». Результат оказался настолько наглядным, что послужил прямым поводом для создания таких, галерей, как Baltic Centre for Contemporary Art в Ньюкасле и Turner Contemporary в Маргейте.
Если говорить о вызовах, которые музей не вполне предвидел, то это организация больших временных выставок. Обычно крупным музеям нужны блокбастеры — и с финансовой точки зрения, и с точки зрения репутации. Но если такие музеи хотят одновременно выглядеть креативными и задавать тон, им приходится искать новые подходы и новые способы выставить работы. Это нужно и чтобы понравиться критикам, и чтобы удовлетворить коллекционеров и музеи, предоставившие экспонаты — поместив эти экспонаты в центр всеобщего внимания.
Tate Modern хотела быть галереей нового рода и особенно старалась избегать скучных ретроспектив признанных художников. Борхард-Хьюм говорит, что впервые они нашли по-настоящему удачный подход к проблеме в 2008-2009 годах, на выставке Ротко, быстро ставшей хитом. Кураторы сосредоточились на поздних работах Ротко, менее известных, чем его ранние вещи. Работы висели в больших и пустынных комнатах с белыми стенами — заметный контраст с полутемными, почти уютными пространствами, где они обычно выставлялись в Tate Britain. В результате картины смотрелись так, как могли бы смотреться в студии самого Ротко сразу после того, как были закончены. Это давало посетителям новый взгляд и, как говорит Борхард-Хьюм, «новый образ мысли и новую трактовку феномена выставки как такового — люди не просто смотрели на работы, они находились в одном пространстве с работами. Они получали некий опыт, а не только информацию».
Tate Modern иногда критикуют за пристрастие к большим, помпезным выставкам, но Борхард-Хьюм не принимает такую критику. В конце концов, именно продажи билетов на такие шоу позволяют сохранять вход на постоянную экспозицию бесплатным. «Представьте, что у вас есть театр. Что лучше — вообще перестать ставить Шекспира? Или будете интерпретировать его и адаптировать к современности? Великое искусство может быть многогранным, его можно интерпретировать и представлять публике заново. Когда мы выставляем Уорхола, мы трактуем его в первую очередь как гомосексуального сына иммигрантов и одновременно рассматриваем темные стороны американского консюмеризма. Мы делаем то, что заинтересует и увлечет людей прямо сейчас».

Кроме того, Tate Modern иногда презрительно называли, по выражению одного критика, «Диснейлендом для взрослых». Некоторым инсталляции в Турбинном зале казались слишком грандиозными, а сам зал — местом, существующим в первую очередь для того, чтобы туристам было где снять селфи для своего Instagram (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации). Критики жаловались, что Tate Modern слишком упрощает роль зрителя, или, если пользоваться искусствоведческим жаргоном, «легитимизирует эмоциональную реакцию». Моррис говорит, что последнее замечание ранит ее особенно глубоко: «Ведь мы одновременно сделали очень большую серьезную работу, выстроили интернациональную коллекцию, включили в нее художников, которых до того игнорировала официальная история искусства. А нам говорили, что якобы нельзя быть одновременно популярными и глубокими».
Но этот аргумент критиков в конце концов сделали неактуальным новые направления работы Tate Modern, особенно в области перформанса. Кэтрин Вуд, старший куратор международного перформативного искусства, пришла в команду в 2001-м, для того чтобы наладить сотрудничество между художниками и музыкантами, но затем заметила «новое поколение художников, таких как Марк Леки, Монстр Четвинд и другие. Их отличало умение использовать перформанс как способ представить зрителю свои работы, созданные другими средствами — видео, звук, картины. Я почувствовала, что нам в музее нужно пространство, где мы могли бы демонстрировать такое искусство».
Ник Серота и главный куратор Шина Вэгстафф поддержали Вуд, и в 2012-м в галерее открылись The Tanks — пространства для перформансов, устроенные в резервуарах, где когда-то хранилось машинное масло для электростанции. Это сделало Tate первым в мире музеем, имеющим постоянную экспозицию кино-, видео-, интерактивного и перформативного искусства (если вы хотите представить себе хороший перформанс, вспомните самую громкую арт-новость прошлого года — тогда нью-йоркский автор перформансов Дэвид Датуна съел знаменитый банан Маурицио Каттелана, стоивший $120 тыс. и выставленный в Art Basel в Майами).
The Tanks стали фундаментом для программы перформативного искусства, и в 2015 году это привело к моменту, сравнимому по силе с историей, случившейся с The Weather Project. Вуд вспоминает, что поначалу работали не все перформансы, но переломный момент наступил, когда она «увидела, как сотни людей сначала собираются в Турбинном зале на урок танцев, а потом, в тот же день, возвращаются туда, чтобы потанцевать под огромным диско-шаром на импровизированном рейве.
В кульминационный момент все они оказались частью танцевального номера французского хореографа Бориса Шармаца под названием «Если бы Tate Modern была музеем танца». Потрясающий момент — именно тогда я поняла, что публика наконец стала частью музея».
Таня Бругера считает, что «какое-то время Tate Modern действительно производила искусство спектакля, потому что кураторы руководствовались прежде всего вопросом "Как нам угодить всем без исключения?". Но потом они поменяли подход, и теперь это единственный из крупных музеев, которые я знаю, где перформанс не только держат в постоянной экспозиции, но и относятся к нему так же серьезно, как к живописи или, скажем, скульптуре. Это поменяло мир искусства и выдвинуло Tate Modern в лидеры».
Теперь Моррис, по словам Тани Бругеры, направляет Tate в сторону «социально включенного» и «отношенческого» искусства. Это самое обсуждаемое сейчас движение: объект искусства может вообще не иметь никакой физической формы и состоять только из выстроенной художником системы социальных взаимодействий (например, значительная часть работы Лоуренса Абу Хамдана, получившей в 2019-м году премию Тернера, — интервью с бывшими узниками сирийской военной тюрьмы Седная). Последняя работа самой Бругеры для Tate Modern — организация группы людей, живущих поблизости от музея. Группа занимается самыми разными проектами; например, участники добились переименования одного из зданий галереи в честь Натали Белл, местной активистки. Вопрос в том, как вообще можно запечатлеть подобную работу, особенно пока она не окончена; в значительной степени этот вопрос и делает такое искусство интересным. Бругера стремится создавать искусство, которое нельзя сфотографировать и выложить в Instagram (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации), так как считает, что «искусство должно быть жестом, а не картинкой».

Cотрудники Tate Modern могут иногда выглядеть высоколобыми интеллектуалами, а современное искусство может показаться сложным и полным теоретизирования, но тем сильнее поражает то, как часто кураторы и художники говорят о местном сообществе и о мелких моментах, касающихся ежедневного управления музеем. Лайонел Барбер упоминает Stanhope, компанию, которая занималась расширением здания: «Обратили внимание, насколько там сложная кирпичная кладка? Представьте, сколько усилий ушло на то, чтобы все сделать как надо». Ник Серота заговаривает о мини-парках и скамейках, которые галерея установила в окрестностях. На церемонию открытия в 2000-м среди прочих пригласили 300 лондонских таксистов, чтобы те знали, куда потом везти пассажиров. Художники — и Балка, и Бругера — говорят, что одна из основных причин, по которым все хотят получить заказ от Tate Modern, — профессионализм технической команды галереи.
«С ними не приходится придумывать план Б, потому что они всегда находят способ довести план А до конца, — говорит Бругера. — Какой бы безумный проект вы им ни принесли, они найдут адвокатов, продюсеров, охранников и попробуют воплотить его в жизнь. Когда я работала над "Шепотом Татлина номер 5", я придумала сцену с конными полицейскими, управляющими толпой, но никому об этом не сказала, потому что решила, что это такая несбыточная мечта. Но потом зашел разговор с Tate Modern, и я сказала: "Слушайте, я знаю, что идея невыполнимая, но..." Они меня выслушали и сказали: "Ладно". И исчезли на какое-то время. Я решила, что рано или поздно они откажут. Но они сказали: "Окей, мы решили проблему. Будут у тебя лошади". Они всегда сначала говорят: "Давай выясним". Уважают желания художника. Им действительно важны отношения с людьми».
Моррис, дочь учительницы и архитектора, выросла в Гринвиче, рядом с Национальным морским музеем. Чтобы быстрее всего добраться до магазинов, надо было срезать через музей. Сначала она просто ходила мимо, но потом начала обращать внимание на артефакты и экспонаты и вскоре — в дождливые дни — уже заходила просто на них посмотреть. Особенно ее завораживала картина Артура Уильяма Дэвиса «Смерть Нельсона», хотя она не знала, что работа известная. Когда ей было грустно, она приходила в музей и смотрела на картину Дэвиса — и плакала.
Моррис говорит: «Меня возмущает мысль о том, что ребенок, живущий рядом с музеем, не чувствует себя вправе просто взять и зайти в музей, встать перед экспонатом, который не понимает, и просто получать удовольствие. Понимаете, я правда верю, что от искусства может быть польза».