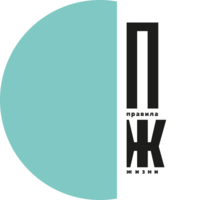Сила слова: 10 нобелевских речей писателей-гуманистов
Сила слова: 10 нобелевских речей писателей-гуманистов
Прежде чем получить Нобелевскую премию по литературе, ее лауреат должен выступить с мемориальной лекцией о своих открытиях и достижениях на торжественном банкете — или предоставить комитету текст речи. По ее жанру или содержанию нет никаких четких предписаний, потому облик ее много раз менялся. Поначалу лауреаты сочиняли гимны литературе и поэзии; затем стали описывать свои художественные программы и идейные принципы, осмыслять роль литературы в жизни общества и место писателя в историческом процессе и, наконец, обращались к учителям — предшественникам, литературным отцам, чьи миссии нынешние писатели взялись продолжить. Мы собрали концентрированную нобелевскую мудрость в стокгольмских речах писателей-гуманистов — по одной на каждое десятилетие с зарождения самой престижной награды.
Бьёрнстьерне Бьёрнсон, 1903
Норвежский писатель и поэт, один из первых членов Нобелевского комитета, присуждающего премию мира, автор норвежского национального гимна «Да, мы любим этот край», Бьёрнсон получил литературную награду за «благородную высокую и разностороннюю поэзию, которая всегда отмечалась свежестью вдохновения и редчайшей чистотой духа».
Именно норвежец прочел первую нобелевскую речь — его предшественники по премии французский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом (1901) и немецкий писатель Теодор Моммзен (1902) своих лекций не предоставили. Выступая на трибуне Стокгольмского концертного зала, Бьёрнсон говорил о художественном предопределении и о миссии литературной премии. Восхваляя силу искусства, Бьёрнсон описал образ, которым ему видится прогресс: нескончаемая череда людей, движимых одним стремлением, некой неподвластной силой, что руководит художниками и поэтами.

Бьёрнстьерне Бьёрнсон. Getty Images
Цель литературы он обозначил, выделив двух современников, которые своими благородными усилиями зажгли «пламя духовного костра»: Ибсена, расставившего «множество бакенов вдоль наших норвежских берегов, которые всегда предупреждают о грозящей опасности и не дают мореплавателю сбиться с пути», и Толстого — «великого старца из соседней страны на востоке», способного настолько увлечь нас далеким идеалом, что долгий путь к нему может показаться пугающим. Но страх, говорил Бьёрнсон, не должен сбивать нас с дороги, ведь на ней воля к жизни крепчает, а процессия должна продолжать свой путь. Поводырем ее Бьёрнсон видел писателя — человека, который взвалил на свои плечи мировое бремя, дал присягу тяжко трудиться, нести моральную ответственность за всех остальных людей.
,,
Прогресс человечества никогда не был результатом сознательных усилий, и никому не удавалось сделать его таковым. Местонахождение этого понятия между осознанным стремлением к нему и бессознательным желанием вырваться вперед, свойственное всем нам; последнее и связано с порывом нашего воображения. В некоторых из нас дар предвидения настолько силен, что позволяет различать самые далекие горизонты впереди и те тропы, которые к ним ведут, по которым предстоит идти человечеству.
читать полную версию
Томас Манн, 1929

Конкретные произведения не так часто указываются в обосновании награды, но свою премию Манн получил как раз за дебютный роман «Будденброки», вышедший в 1900 году (хотя в то время как раз отгремела его «Волшебная гора» (1924) — роман-рефлексия послевоенной эпохи в Европе). В «Будденброках» Манн передал неуловимую утрату воли к жизни, что пробивается на фоне вырождающихся поколений одного рода, где каждый из членов семьи погибает под натиском бюргерских симптомов — бережливости, расчетливости или предприимчивости; и растворяется в философии, религии, музыке или пороках.

В своей лекции Манн описал и проанализировал историю германской литературы предшествовавших ему полутора десятилетий, придя к выводу: она утвердила «привлекательность среди мук», сберегла честь политическую, «не распавшись в анархии боли, сохранив свою государственность», и духовную, «сумев творить прекрасное среди страданий». Присуждение ему премии он истолковал как дань высокому героизму немецкого духа, как мировое признание, выпавшее на долю духовных достижений Германии. Свою писательскую задачу он определил так: «спокойно прясть свою нить, храня размеренность в жизни и в искусстве». Он же первым из нобелевских лауреатов указал на различия между писателем и оратором, обозначив в качестве своей художественной философии предельную преданность написанию, как бы говоря, что дело его — печатать, а не кричать об этом; к той же мысли вернется через несколько лет в своей речи Хемингуэй.
,,
Все, что за последние полтора десятилетия было создано в Германии в духовной и художественной областях, создавалось не в благоприятных психологических и материальных условиях; ни одно произведение не созревало и не завершалось в безопасности и покое, нет, условия искусства и духовной жизни были условиями острейших общих проблем, условиями нужды, взбудораженности и страданий, почти восточной, почти русской сумятицы страданий, которой немецкий дух сохранил западный, европейский принцип, честь формы. Ведь форма, не правда ли, — это европейское дело чести!.. Я не католик, многоуважаемые дамы господа, моя традиция, как, вероятно, и всех присутствующих, — это протестантская непосредственность Бога. Однако у меня есть один любимый святой. Назову вам его имя, это святой Себастьян — помните, юноша у столба, пронзенный со всех сторон копьями, стрелами и среди мук улыбающийся. Привлекательность среди мук — вот героизм, символизируемый святым Себастьяном.
ЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ
Иван Бунин, 1933
С присуждения награды Ивану Бунину началась русская ветвь в истории Нобелевской премии. Позднее каждый из его соотечественников на этой кафедре прочел похожие слова о скорбях и радостях, которые не могут быть для писателя личными, о том, что судьба писателя неотделима от судьбы его народа; Бунин получил премию «за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер». Писатель при этом находился в вынужденном изгнании из России, проживал во Франции, но французского гражданства так и не получил. По традиции в зале Академии принято вывешивать флаги страны-хозяйки и страны, которую представляет лауреат. В тот год наперекор правилам зал украсила только шведская символика.


Хронику нобелевских дней Бунин позже описал в очерке, в конце которого воспроизвел текст своей речи. В ней он описал события, происходившие с ним после звонка из Академии: свои чувства — «ни единой свободной и спокойной минуты с утра до вечера», дорогу, распорядок — 10 декабря 1933 года, в «день самый главный», он встал очень рано, Стокгольм на рассвете казался ему невероятно похожим на Петербург, утро началось с могилы Альфреда Нобеля, Бунин ехал в цилиндре на кладбище, чтобы возложить венки на могилу основателя премии, день был морозный. И для него он был совсем не таким, как для других лауреатов, — в силу его «принадлежности к той странной России, которая сейчас рассеяна по всему свету», из-за того, что решение комитета стало для этой страны — «униженной и оскорбленной во всех своих чувствах» — событием по-настоящему национальным.
,,
В мире должны существовать области полнейшей независимости. Несомненно, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно, — она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академии, еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий религиозный культ Швеции.
ЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ
Уильям Фолкнер, 1949

Сейчас практически все американские литературоведы называют Фолкнера одним из величайших классиков ХХ века — и самым трудночитаемым. Однако в родной стране автора «Шума и ярости» признали лишь после того, как ему присудили Нобелевскую премию за «мощный и уникальный в художественном отношении вклад в современный американский роман».
Его нобелевская речь вошла в число наиболее цитируемых. Фолкнер говорил о тех универсальных истинах, которые должны наполнять любое стоящее произведение; по его мнению, литература, не описывающая старых идеалов человеческого сердца — любви и чести, жалости и гордости, сострадания и жертвенности, — не стоит мук и пота; а писатели, которые выбирают своими темами порок вместо любви или победу, не несущую надежду, пишут не о сердце, но о «железах внутренней секреции» и являются «равнодушными наблюдателями конца человеческого». Впрочем, писатель отказывался принять конец человека: он верил, что тот не только выстоит, но и победит; ведь он бессмертен — и не потому, что единственный из живых организмов «обладает неизбывным голосом», но потому, что в нем зиждется дух, «способный к состраданию, жертвенности и терпению».
Уильям Фолкнер. Alamy/Legion Media
,,
Я верю в то, что человек не только выстоит — он победит. Он бессмертен не потому, что только он один среди живых существ обладает неизбывным голосом, но потому, что обладает душой, духом, способным к состраданию, жертвенности и терпению. Долг поэта, писателя и состоит в том, чтобы писать об этом. Его привилегия состоит в том, чтобы, возвышая человеческие сердца, возрождая в них мужество и честь, и надежду, и гордость, и сострадание, и жалость, и жертвенность — которые составляли славу человека в прошлом, — помочь ему выстоять.
ЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ

Эрнест Хемингуэй, 1954
Эрнест Хемингуэй, чей простой и ясный стиль письма исследователи называют телеграфным, получил премию за «высокое мастерство в искусстве повествования, продемонстрированное недавно в "Старике и море", и за влияние, которое он оказал на современный стиль». На церемонию писатель не смог приехать по состоянию здоровья — как, впрочем, и множество его нобелевских предшественников, многие из которых даже не предоставили комитету текст. Хемингуэй же прочел речь позднее на одной из гаванских радиостанций.
Эрнест Хемингуэй в качестве военного корреспондента вместе с американскими солдатами отправляется в Нормандию, 1944 год. Central Press/Getty Images
Хемингуэй в своей речи обратился к теме одиночества и миссии писателя, который творит один и который должен «изо дня в день видеть впереди вечность или отсутствие таковой». Хэмингуэй также сказал о том, как сложно создавать литературу, находить то, о чем не писали или писали плохо, уходя далеко за те границы, до которых доходили великие рассказчики в прошлом, «за пределы доступного ему, туда, где никто не может ему помочь». Cвою речь — пожалуй, самую емкую из всех когда-либо представленных Нобелевскому комитету — Хемингуэй закончил словами: «Все, что писатель имеет сказать людям, он должен не говорить, а писать».
,,
Жизнь писателя, когда он на высоте, протекает в одиночестве. Писательские организации могут скрасить его одиночество, но едва ли повышают качество его работы. Избавляясь от одиночества, он вырастает как общественная фигура, и нередко это идет во вред его творчеству. Ибо творит он один, и, если он достаточно хороший писатель, его дело — изо дня в день видеть впереди вечность или отсутствие таковой. Для настоящего писателя каждая книга должна быть началом, новой попыткой достигнуть чего-то недостижимого. Он должен всегда стремиться к тому, чего еще никто не совершил или что другие до него стремились совершить, но не сумели. Тогда, если очень повезет, он может добиться успеха.
ЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ
Михаил Шолохов, 1965
Один из самых загадочных писателей в истории русской литературы стал единственным нобелевским лауреатом, который получил премию с официального согласия правительства СССР. Это решение шведской Академии — одно из самых критикуемых: академиков обвиняли в том, что их выбор мотивирован политической конъюнктурой, так как кандидатуру Шолохова в противовес Борису Пастернаку активно продвигало советское правительство. Однако из архивов известно, что Шолохова, до 1965 года выдвигавшегося на премию 12 раз, поддерживали многие иностранные институты. За год до присуждения Нобелевки автору «Тихого Дона» от премии отказался Жан-Поль Сартр, мотивировав это в том числе тем, что премия стала наградой для «писателей Запада или "мятежников" с Востока», что премия была присуждена Пастернаку, а не Шолохову и что «единственным советским произведением, получившим премию, была книга, изданная за границей и запрещенная в родной стране».
Шолохову присудили премию «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». На торжественном банкете 10 декабря 1965 года он прочел речь под названием «Живая сила реализма», в которой заявил, что решение награждающей организации есть не что иное, как утверждение жанра романа.
«Убежденный приверженец реалистического искусства» — так он назвал себя в этой речи — рассуждал о том, что такое литературный авангард. В понимании Шолохова это реалистический роман, который опирается на художественные традиции классиков, но при этом несет в себе совершенно новые, «глубоко современные» черты. Он говорил, «разумеется, о таком реализме, который мы называем сейчас социалистическим». Как считал автор «Тихого Дона», он несет в себе идею обновления жизни, «переделки ее на благо человеку». Размышляя о месте писателя в современном мире, он называл его человеком труда, тем, кто своими руками и своим мозгом создает все; для кого высшие честь и свобода заключаются в «ни с чем не стесняемой возможности служить своим пером трудовому народу».
,,
В чем же состоит призвание, каковы задачи художника, считающего себя не подобием безучастного к людским страданиям божества, вознесенного на Олимп над схваткой противоборствующих сил, а сыном своего народа, малой частицей человечества? Говорить с читателем честно, говорить людям правду — подчас суровую, но всегда мужественную, укреплять в человеческих сердцах веру в будущее, в свою силу, способную построить это будущее. Быть борцом за мир во всем мире и воспитывать своим словом таких борцов повсюду, куда это слово доходит. Объединять людей в их естественном и благородном стремлении к прогрессу. Искусство обладает могучей силой воздействия на ум и сердце человека. Думаю, что художником имеет право называться тот, кто направляет эту силу на созидание прекрасного в душах людей, на благо человечества.
ЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ
Александр Солженицын, 1972
Решение Нобелевского комитета присудить Солженицыну премию «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы» Дмитрий Быков назвал одним из самых прозорливых: как и Томас Манн, Александр Солженицын получил награду «авансом» (от первой печатной публикации писателя до присуждения премии прошло всего восемь лет — такого в истории Нобелевки не было ни до, ни после), который оплатил несколько лет спустя публикацией «Архипелага ГУЛАГ».

Писатель предполагал, что после получения премии в Стокгольме не сможет вернуться на родину, и ожидал приезда ученого секретаря Шведской академии Рагнара Гирова в Москву. Тот должен был вручить награду в конфиденциальной обстановке, но церемонию пришлось отменить — посланнику не выдали визу. Солженицын втайне отправил текст лекции в Нобелевский комитет для публикации в сборнике Les prix Nobel en 1971 на шведском, русском и английском языках. Ее перепечатывали европейские издания, она стала популярной среди советского самиздата, однако официально ее выпустили только в 1989 году в журнале «Новый мир».
Александр Соженицын в Цюрихе. Писателя выслали из СССР после публикации романа «Архипелаг ГУЛАГ». Keystone/Getty Images

В этой речи Солженицын размышлял о задаче искусства и пророчестве Достоевского: «мир спасет красота». Он заявил: миссия литературы — заменителя непережитого опыта — представлять истины сгущенно-живыми, связывать воедино все шкалы, по которым оцениваются события, случающиеся в разных местах. По одним меркам месячное заключение или ссылка в деревню считаются чем-то из ряда вон выходящим; по другим обросшие льдом карцеры и сумасшедшие дома для здоровых — привычными вещами. Но такое взаимное непонимание разных групп людей грозит крахом всему человечеству: его разорвет эта разница ритма и колебаний, он не жилец, как человек с двумя сердцами.
Александр Солженицын на банкете шведской академии в 1974 году. Gilbert UZAN/Gamma-Rapho via Getty Images
Солженицын призывал писателей вернуться к обветшалой формуле триединства Истины, Добра и Красоты и пользоваться мнимо-фантастическим нарушением закона сохранения масс и энергий, на котором основана и его собственная деятельность: «одно слово правды весь мир перетянет». Чтобы в мире, где торжествует не просто насилие, но его «трубное оправдание», появилась надежда на спасение от бесов Достоевского, расползшихся по всему свету в такие страны, где их и вообразить не могли; чтобы одни нации не повторяли печальных судеб других; чтобы литература переносила «неопровержимый сгущенный опыт от поколения к поколению» и давала усвоить его как собственный.
,,
Не все — называется. Иное влечет дальше слов. Искусство растепляет даже захоложенную, затемненную душу к высокому духовному опыту. Посредством искусства иногда посылаются нам, смутно, коротко, — такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению. Как то маленькое зеркальце сказок: в него глянешь и увидишь — не себя, — увидишь на миг Недоступное, куда не доскакать, не долететь. И только душа занывает...
ЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ
Габриэль Гарсиа Маркес, 1982
Первым колумбийским лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Габриэль Гарсиа Маркес, чьи «Сто лет одиночества» прославили Латинскую Америку и ее магический реализм. Члены Нобелевского комитета присудили ему премию «за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента». Его ставили вровень с Гомером и Вергилием — сам же писатель, говоря о своем самом известном романе, утверждал, что он напрочь обделен серьезностью.
В своей речи Маркес связал присуждение ему Нобелевской премии с тем, что Европа наконец обратила внимание на «чудовищную действительность» Латинской Америки, где дети погибают, не дожив до двухлетнего возраста, где уровень политических репрессий и бедности таков, что сотни тысяч становятся беженцами и эмигрантами. Писатель призвал европейцев присмотреться к собственной непростой истории и пересмотреть свое восприятие Латинской Америки и ее народов, стремящихся к полноправному участию в мировой политике.
Маркес назвал своим учителем Уильяма Фолкнера и процитировал слова из его речи о несогласии с концом человека; обозначил свою миссию как писателя: «предположить, что еще не слишком поздно создать утопию с противоположным знаком» — всепобеждающую утопию жизни, где каждый сам решает, что и как ему делать, где любовь — искренняя, а счастье — настоящее, и где людям, «осужденным на сто лет одиночества, представится еще один шанс в земной жизни».
,,
Я хотел бы в очередной раз выразить надежду на то, что сейчас мы воздаем дань благодарности поэзии. Той поэзии, чья сила наполняет несметное количество кораблей в «Илиаде» Гомера мощным ветром, который гонит их вперед с неподвластной времени и ошеломляющей воображение скоростью. Той поэзии, чьи тонкие струны связывают в одно целое терцеты Данте, вдыхая жизнь во все литературное творчество Средневековья. Поэзии, что столь чудным образом напоминает нам о нашей земле на вершине горы Мачу-Пикчу, величии Пабло Неруды, в которой застыла тысячелетняя грусть наших лучших несбывшихся грез. Поэзия, в конце концов, это та невидимая энергия нашей повседневной жизни, которая готовит нам горох на кухне, вызывает любовь и создает отображения в зеркалах. В каждой написанной строке я всегда, с большим или меньшим успехом, пытаюсь призвать застенчивых духов поэзии, а в каждом слове стараюсь засвидетельствовать свое преклонение перед их даром предвидения и постоянной победой над равнодушной властью смерти.
ЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ
Гюнтер Грасс, 1999
Гюнтер Граcс был представителем литературной «Группы 47» — объединения немецкоязычных писателей, выступавших против гитлеризма. Свою миссию они видели в осмыслении опыта нацизма, холокоста и Второй мировой войны. Его «Жестяной барабан» стал центром громких споров; одни называли писателя «сочинителем свинств», другие присуждали ему премии. Нобелевскую он получил «за то, что его игривые и мрачные притчи освещают забытый образ истории».
В своих произведениях Грасс, борясь с забвением, воскрешал родной Вольный город Данциг (ныне Гданьск), разрушенный город-государство, потерявший свою независимость в 1939 году. В речи он говорил о повествовании как форме выживания и форме искусства; о том, что происходит он из страны Книжных Костров и из мира, где писателей преследуют, убивают или угрожают их жизни, «и весь мир привык к этому продолжающемуся террору». Он рассуждал о том, откуда берется одна-единственная действительность, тогда как правда плюралистична; почему книги и их авторов считают опасными, в то время как сама сущность их профессии заключена в том, чтобы не оставлять в покое прошлое; и как молодая послевоенная литература «справлялась с немецким языком, развращенным под властью национал-социализма», несмотря на запретительный знак в виде фразы Теодора Адорно «Писать после Освенцима стихи — это варварство».

Гюнтер Грасс. Alamy/Legion Media
Грасс говорил, что писатель — это «человек, пишущий против времени»; и каждый раз, когда в Германии «провозглашался Час Ноль, конец послевоенного времени, — в последний раз это было десять лет назад, когда пала Берлинская стена и единство Германии зафиксировали на бумаге, — всякий раз нас снова настигало прошлое». И так будет происходить каждый раз, даже если вдруг книги запретят писать или печатать; найдутся писатели, которые «оживят нас своим дыханием, на новый лад прядя нити старых историй: громко и тихо, расчесывая и заплетая их, то смеясь, то плача».
,,
Широко распространилось деятельное бездействие, известную ауру которому создает обманное слово «коммуникация». Время распланировано до коллапса человеческих возможностей. Западный мир отдался во власть культурно-суетной тщеты. Что делать? При моей безбожности остается только преклонить колена перед тем святым, который до сих пор все еще помогает мне сдвигать самые тяжелые обломки. Я заклинаю: святой угодник Сизиф, удостоенный милости Камю, прошу тебя, позаботься о том, чтобы камень не остался лежать наверху, чтобы мы и впредь могли катить его, чтобы мы, как и ты, были счастливы с нашим камнем и чтобы не обрывалась рассказываемая история о тяготах нашего существования.
ЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ
Имре Кертес, 2002
Венгерский писатель Имре Кертес, известный благодаря роману «Без судьбы», получил премию «за творчество, в котором хрупкость личности противопоставлена варварскому деспотизму истории». Своей художественной задачей он ставил исследование способности человека жить и мыслить в условиях полной уязвимости перед лицом деградирующего общества. Все его произведения пронизаны опытом, пережитым за 1944-1945 годы в концентрационных лагерях Освенцим и Бухенвальд.

В нобелевской речи Кертес ответил на критику, что он писатель одной темы — темы холокоста. А существует ли современный автор, который не был бы писателем холокоста? По словам Кертеса, проблема Освенцима не в том, подвести ли черту или не подвести; хранить ли нам память о нем или спрятать ее в долгий ящик истории; проблема в том, что он уже был, случился — и этот факт не изменить.
Имре Кертес. Arnd Wiegmann/Reuters
Кертес признался, что всего через десять лет после возвращения из концлагерей, «еще увязая одной ногой в чудовищном кошмаре сталинского террора», — он сохраняет об этом всем только неотчетливые воспоминания да парочку анекдотов. Будто бы все это происходило не с ним, будто бы здесь, как сказал бы господин Фрейд, имеет место вытеснение какого-то травмирующего впечатления. Первое прозрение, вернувшее ему почти утерянную жизнь, заставило его испытать предчувствие более тяжелой жизни, к которой приведет стремление вырваться из «затягивающего в себя строя, из истории, которая тебя обезличивает и лишает судьбы». Так открылась ему технология ужаса, объяснившая, как обратить «против человеческой жизни само человеческое естество». Однако, размышляя о свободе в условиях ограниченной диктатуры, он решил, что человек или отказывался от борьбы, или все же находил неочевидные пути, приводившие его к внутренней свободе.
,,
Родители моей матери погибли в огне холокоста, родителей же отца отправила на тот свет коммунистическая диктатура Ракоши, выселившая еврейский дом престарелых из Будапешта в северное пограничье Венгрии. Мне кажется, эта короткая семейная история вбирает в себя и символизирует историю страданий моей страны в новейшую эпоху. Все это учит меня тому, что в скорби содержится не только горечь, но и большой нравственный потенциал. Быть евреем? По-моему, в наше время это снова задача прежде всего этическая. И если холокост сегодня оказался способен творить культуру — а это именно так, — то цель ее только в одном: усилием духа породить из непоправимой реальности единственно возможное искупление — катарсис. Именно это стремление вдохновляло меня во всем, что я делал.
ЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ
Боб Дилан, 2016
Роберт Циммерман, или поэт-песенник Боб Дилан, стал первым музыкантом в истории Нобелевской премии. На торжественной церемонии в Стокгольме музыкант присутствовать не смог, и его песню A Hard Rain’s A-Gonna Fall в Шведской королевской академии исполнила Патти Смит. Однако он выступил с речью в июне следующего года, а через несколько месяцев издательство Simon & Schuster напечатало речь отдельной книгой.

В формулировке награждающего комитета причиной присуждения премии значится «за создание нового поэтического языка в рамках великой американской песенной традиции». Все споры, разгоревшиеся было вокруг столь беспрецедентного выбора, комитет разрешил, обратившись к уставу, где сказано: «Литературой является не только беллетристика, но также и другие произведения, которые по форме или же по стилю представляют литературную ценность». Как отмечала секретарь Шведской академии Сара Даниус, заглянув на пять тысяч лет назад, можно обнаружить Гомера и Сафо, чьи поэтические тексты предназначались для исполнения — как и слова Боба Дилана.
Боб Дилан. Fiona Adams/Redferns/Getty Images
Впрочем, музыканта и самого волновал вопрос, почему самая престижная литературная награда досталась именно ему. Свою речь он посвятил роли литературы в своем творчестве и месту своего творчества в литературе. Ее можно было бы назвать так: «Три особые книги в жизни Боба Дилана, которые раскиданы по всем его песням». Он подробно пересказал сюжеты, акцентируя внимание на тех ключевых моментах, которые делают эти истории общечеловеческими, — скитания капитана Ахавы, «таинственная воронка смерти и боли», в которую засасывает ремарковского Пауля Боймера, и, наконец, трудная обратная дорога Одиссея. Он обратился к Шекспиру, сравнил его пьесы и свои песни, чтобы объяснить, что его музыка — это литература, требующая особого контекста — озвучивания. И поделился открытиями, которые сделал, когда начинал заниматься музыкой и пытался понять, как наделить ее энергией и правдой жизни, чтобы она переносила в мир, какого еще не было; чтобы вдруг темнота освещалась.
,,
Слушая всех ранних фолк-артистов и сам исполняя эти песни, овладеваешь разговорным языком. Пропускаешь его через себя. Поешь его в регтаймовых блюзах, рабочих песнях, морских песнях Джорджии, апалачских балладах и ковбойских песнях. Слышишь все его тонкости, учишься деталям. <...> Непонятым не осталось ничего — приемы, методы, секреты, таинства; и я, к тому же, знал все пустынные дороги, по которым бродил. Я мог связать все это воедино и двигаться в потоке дня. Когда я начал писать собственные песни, весь мой словарь был из народного языка, и я им пользовался.
Но у меня было и кое-что еще. Основы и впечатлительность, и обоснованное мировоззрение. Какое-то время все это у меня и вправду было. В начальной школе выучился. «Дон Кихот», «Айвенго», «Робинзон Крузо», «Путешествия Гулливера», «Повесть о двух городах», все остальное — типичное чтение начальной школы, что дарило тебе способ смотреть на жизнь, понимание человеческой природы и тот стандарт, каким все мерить. Все это я взял с собой, когда начал сочинять тексты песен. И темы из тех книг пробрались во многие мои песни — либо сознательно, либо ненамеренно. Мне хотелось сочинять такие песни, каких никто никогда не слышал, и темы эти были коренными.
Текст: Виктория Бутакова