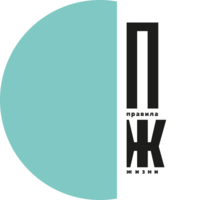Каково это — быть матерью святого

В феврале 1996 года рядовой Назрановского погранотряда Евгений Родионов вместе с тремя сослуживцами был взят в плен боевиками Руслана Хайхороева. Отказавшись принять ислам в обмен на свободу, все четверо были казнены вблизи чеченского села Бамут. Через некоторое время началось стихийное почитание мученика Евгения как святого.
ЛЮБОВЬ РОДИОНОВА, пенсионерка, 60 лет:
«16 февраля 1996 года я получила телеграмму, в которой сообщалось, что мой сын оставил часть — стандартная форма, сообщающая о дезертирстве. Но я знала, что дезертирство — это не про Женю, к тому же накануне мне приснился сон: задом наперед я иду по черной земле, заравнивая ее, а руки мои остаются чистыми.
Неделя ушла на то, чтобы собрать деньги, и я отправилась в Чечню. Я ничего не знала о ситуации на Кавказе и о том, как надо себя вести, но понимала, что сын в беде. Рано утром я вышла из поезда во Владикавказе и увидела все это: блокпосты, камуфляж и автоматы. Совершенно случайно я разговорилась с кем-то из группы по урегулированию осетино-ингушского конфликта. Мне сказали: никому не верьте, ваш сын в плену. И еще: надо ехать в Назрань. В Назрань я приехала этой же ночью и нашла командира погранотряда, где служил Женя. Он сказал: "Ваш сын в плену. Уезжайте домой, мы будем этим заниматься". Оказывается, про эту историю там уже знали все, а я ничего не понимала и только им мешала. Но я настояла на том, чтобы меня отправили на заставу, где все произошло. По дороге всюду были заграждения, мешки с песком, а там, на заставе, — ничего. Только будка маленькая, и ни света, ни связи. Пока двое пограничников грелись в будке, еще двое стояли на посту. Машина скорой, на которой к заставе подъехали боевики, сумела приблизиться к ним вплотную. Ведь пограничники не могут стрелять без предупреждения, а все устройство заставы словно говорило: берите этих, они у нас лишние.
Потом мне посоветовали ехать в Ханкалу (поселок в окрестностях Грозного. — Правила жизни), где работала группа розыска. Нужно было опять проделать весь этот путь — Назрань—Владикавказ—Беслан. Я пошла к летчикам, объяснила ситуацию. Утром они отправили меня вертолетом в Асиновскую. Надо было где-то ночевать, и я пошла к главе администрации: русская тетка, которая непрерывно курила и говорила басом, взяла меня к себе. В доме стояли две кровати, но спать мне и себе она постелила на полу. Первой же ночью саданули гранатометы — как раз в то место, где стояла кровать. Тогда я в первый раз увидела, что такое гранатомет: сквозная дыра с человеческий рост, пыль и грохот.
Оставаться было опасно, и она отправила меня в семью казаков. Когда-то они жили тем, что разводили нутрий на мех, а теперь сидели на чемоданах, ели нутрий, а во время обстрелов уходили к речке. С хозяйкой мы ходили к чеченцам — собирали информацию. Приходили в дом с фотографией — я сделала 70 копий Жениного фото — и говорили: "Сын пропал. Где он может быть?" Кто-то говорил, что есть лагерь военнопленных, но я тогда не понимала еще, как такое возможно: все знают, что есть лагерь, но никто ничего не делает. Не понимала, что торговля людьми — выгодный бизнес.
Когда, наконец, я приехала в Ханкалу, оказалось, что пограничников никто не ищет. Есть разные группы: МВД ищет своих, армейцы — своих, десантники — своих. А группы по розыску пограничников нет, хотя на тот момент в плену было 14 человек. Только благодаря моим звонкам в Москву создали такую группу, а я осталась на Ханкале. Меня поселили в казарму вместе с другими матерями. Никаких перегородок не было, мы спали прямо с солдатами и ели с ними ту же серую жидкую кашу. Мы очень всем мешали. Командующий все ругался: отправьте их домой. Но как это сделать? Связать нас, что ли? Верните детей, говорили мы, и сами уедем. Каждый день мы спрашивали поисковые группы: узнали что-нибудь? Но они были вынуждены приходить к нам с опущенными глазами. Трудно их в чем-то винить. Выезжая за посты, они сами могли стать такими же жертвами.
Параллельно с этим существовал рынок посредников. Каждый день мы приходили туда с фотографиями. Мы искали своих, чеченцы — своих. Например, посредник говорил: я нашел твоего, теперь ты моего найди. А он, например, в тюрьме сидит за убийство. Я сразу говорила: найти не могу, только деньги. Но деньги он брал, а информации не приносил.
Прошло какое-то время, и одна из матерей получила сведения, что ее сын в Бамуте. Если хочешь, сказала она, можешь поехать со мной. Но я отказалась, потому что у меня такой информации не было. Тогда она украла у кого-то из соседок деньги, потому что своих у нее не осталось, и уехала. Ее долго не было, а когда она вернулась, оказалось, что ее долго держали в лесу и досталось ей крепко. Мне она сказала, что Жени в Бамуте нет. И я перестала про Бамут думать.
Потом у меня закончились деньги. В части нас упрекнули в том, что мы объедаем солдат, и я перестала ходить в столовую. По-прежнему не было никаких вестей, но мысль, что Женя может быть мертв, не посещала меня ни разу. Видно, я плохая мать, если сердце мне не подсказывало.
Потом одна женщина предложила мне место — уборщицей в генеральской гостинице. Мне очень повезло: чужих туда не брали. Деньги это были небольшие, но удобный режим: сутки работать, а потом трое на розыски. К тому же я первая получала всю информацию — в гостинице останавливались все военные и чиновники, приезжавшие в Ханкалу. Всем что-то нужно было: кому вода кипяченая в графине, кто-то просил постирать, к кому-то приезжали родные. В общем, меня уже все узнавали. И я старалась делать для них что-то хорошее — цветочек найти, поставить в стакан. Там я познакомилась с Шамановым (в 1996 году командующий группировкой войск в Чечне. — Правила жизни), со Степашиным. Для себя я у них ничего не просила, хотя потом именно Степашин часовню Жене поставил.
С ребятами из нашей поисковой бригады у меня были сложные отношения. Я на них надеялась, а они сидели и ждали, пока кто-то не найдется случайно в результате боевой операции. Я ругалась и ставила им в комнатах полынь, если они бездействовали, а если куда-то выбирались — цветы.
В свободные дни я ездила проверять информацию: в дома к боевикам, к простым чеченцам и в лагеря боевиков. Постепенно я училась жизни на войне. Первое время мне казалось, что если дом разрушен, там меня лучше поймут, но оказалось — наоборот: там горе, люди озлоблены. Потом уже я заходила только в нетронутые дома, где всегда получала и чашку чая, и кусок хлеба. Я приходила и в лагеря, показывала фотографию, спрашивала. Меня прогоняли, я уходила, но через два часа возвращалась снова. Другого выхода у меня не было, потому что мне нужно было услышать, жив или нет. Я говорила: хочешь — убей, но я не уйду. Тогда мне отвечали: твоего у нас нет, и я вынуждена была верить.
В любой деревне тебя обязательно отведут сначала к гадалке. Жителей там уже, может, почти не осталось, но гадалка обязательно есть, а ей надо зарабатывать. Если нагадает, что его нет в живых, дальше здесь спрашивать бесполезно. Так, в деревне, я однажды сфотографировалась с Хаттабом. Мальчик за сто рублей на полароид снимал. Пожалуй, Хаттаб был самым страшным человеком, кого я там встречала, но мне потом эта фотография пропуском служила.
Так получилось, что я неделями жила в домах братьев Ямадаевых, Дениевых, встречалась с Доку Умаровым, Масхадовым, Гелаевым. До сих пор я храню все до одной записки, которые они друг другу через меня посылали: "У меня его нет, помоги ей". Многие мне угрожали, но только где они все теперь? Потом, возвращаясь в Чечню, я интересовалась их здоровьем, но почти никого уже не осталось в живых.
В апреле с отцом одного похищенного солдата мы пошли в дом матери Шамиля Басаева, в Ведено. Нас сдержанно приняли, мать накрыла на стол, угостили чаем, пришел Шамиль и выполнил все правила гостеприимства. Нам он сказал, что наших детей у него нет, и мы ушли. Через пару километров нас догнали его люди. Спутника моего застрелили, а меня избили, сломали позвоночник. Тогда я впервые близко увидела труп — сутки пролежала на его руке. Они бросили нас. Сказали, что мы из ФСБ, что передаем своим информацию и что по нашим следам приходят федералы. Меня тогда спасла только злость. Ну, думаю, сволочи, погодите. Я кое-как выползла, добрела до наших. Жаловаться никому я, естественно, не могла: строго говоря, я нарушала закон. Нам выдали бумажки, где говорилось, что мы — матери и ищем своих детей, но находиться по ним мы могли только в Ханкале. В общем, я туго бинтовалась и на обезболивающих продолжала мыть полы.
До конца сентября я искала живого сына, но 21 сентября был праздник, куда приехали главные чеченцы, и там восемь полевых командиров сказали мне, что его больше нет, а за информацией надо ехать в Бамут. Поверить в это я не могла, не поверить тоже. У меня болело все — руки, ноги, душа. Я шла после праздника прямо под обстрелом, и хотелось мне, чтобы попала пуля и все закончилось.
На следующий день мы с Вячеславом Пилипенко, начальником группы розыска, поехали к Руслану Хайхороеву в Бамут. Он признался, что ребята действительно погибли, и выставил нереальные условия за информацию об их могилах: отпустить какого-то боевика, разминировать территорию, где ребята были убиты и захоронены, а также заплатить деньги.
Условия были невыполнимыми намеренно: у них был приказ не выдавать обезображенные тела. Там было много западных наблюдателей, комиссия ОБСЕ, и они хотели выглядеть прилично.
Но боевика все же выпустили, а деньги я собрала, продав свою квартиру под Подольском. Оставалось самое сложное — разминировать три километра до Бамута и участок 100 на 200 метров, где было захоронение. А там все ущелье нашпиговано минами — нашими, чеченскими, а также минами каких-то диких отрядов, которые никому не подчиняются. И карт минных полей, конечно, не было ни у кого. Я искала добровольцев, и так прошел месяц. Один раз я прошла туда, и прямо за мной подорвался сопровождавший меня капитан. Но даже после того, как мы сделали все, что они просили, они все равно не спешили отдавать тела.
В конце концов мы решили: или сегодня, или никогда — и поехали на эксгумацию. Гораздо проще пережить, когда тело привозят в гробу. Но я так устроена: должна была сама увидеть небо и деревья, на которые сын смотрел в последний день. Добрались до места ночью, начали копать. Когда крикнули: "Крестик!", я потеряла сознание: до этого момента я все же не верила, что он мертв. Женя сам отливал свои крестики, так что по нему и по носкам собственной вязки я потом его опознавала.
Затем снова был праздник, самолеты не летали, и шесть часов я сидела одна на каком-то вертолетном поле с восемью трупами, разложенными на носилках. К четырем моим мне дали еще столько же — отвезти в Ростов. Светило солнце, ветер шевелил фольгу, и вроде бы жизнь продолжается, а я от этой жизни отгорожена фольгой. Мне казалось, что я схожу с ума, потому что это страшнее, чем ходить по горам и искать, когда еще есть надежда.
Потом, в Ростове, выяснилось, что головы сына среди останков не оказалось, и в Бамут мне придется ехать еще раз. Я прилетела обратно к Хайхороеву 6 ноября. "Вы меня обманули!" — кричала я, и через несколько минут мне принесли четыре кусочка черепа. Согласно их суевериям, головы разбивались прикладом, чтобы убитые не преследовали убийцу на том свете. И вот, спустя несколько дней, я еду поездом с полиэтиленовым пакетом для продуктов, и проводница меня спрашивает: "Что вы вцепились в пакет, у вас там что, золото?" — "Нет, — говорю, — голова сына".
С Хайхороевым, убийцей Жени, я встречалась семнадцать раз. Уже после всего, в 1998 году, я приехала к нему, чтобы еще раз при его супруге спросить, как Женю убивали. Я просила его: "Скажи, что это не так все было". Пусть бы соврал, мне бы легче стало. Но он сказал: "Сожалею, но все так". Почему меня не убили — не знаю, у них были все возможности. Для меня это свидетельство того, что какими бы уродливыми ни были их представления, Бога они тоже боятся. Потому что все они знали, что на Жене крови не было. Да, может, он был плохим солдатом — сразу не расстрелял ту скорую, но он никого не убил. И, кстати, когда мы тела эксгумировали, незнакомая чеченская семья учителей из Бамута последнюю корову зарезала в знак невинности жертвы. С тех пор я ездила в Чечню 58 раз. Сначала просто возвращалась на место убийства, чтобы огородить как-то святое для меня место, где Женя полгода лежал. И видела таких же, как он, мальчишек — один в один, в этих нечеловеческих условиях. Они много мне помогали — кто добровольцем разминировал, кто банку тушенки, кто батон хлеба.
Первый груз для них я собрала моментально — через храм святителя Николая в Пыжах: продукты, спальные мешки, носки, тельняшки, чай. И сигареты — священники морщились, но смирялись. А еще 1200 гитар я им перевезла. Так в каждую часть по очереди приезжала. Научилась стрелять, прыгала с парашютом. Первый раз — просто чтобы доказать. Десантники говорили: мы элитные войска, мы лучше всех. А я говорю: я тоже так могу. Ну а потом уже для удовольствия. Правда, этой осенью ездила, наверное, в последний раз — здоровье подводит, тяжело стало.
Теперь, когда ведут споры, считать Женю святым или нет, — мне уже все равно. Но вот что удивительно: одно его имя двери открывает. Ну как, скажите, самолет, например, найти? "Мне нужно самолет в Чечню отправить". — "А вы вообще кто?" — "Я солдатская мама". — "Много вас таких". — "Я мама Жени Родионова". И сразу все складывается. Имя это примиряет всех: на день памяти приходят и дети, и взрослые, верующие и неверующие, и почитает его каждый по-своему: кто-то молитвой, кто-то рюмкой водки.
Но я жалею, что была на комиссии по канонизации (синодальная комиссия Московского патриархата, занимающаяся подготовкой материалов для канонизации подвижников. — Правила жизни) в 2003 году. Я думала, они захотят от меня услышать, как все на самом деле было, без этого сентиментального надрыва, который в материалах про Женю есть. Но там все делается с каким-то сарказмом: сидят люди в кабинете и решают, кто святой, а кто нет, протоколы разложены. И из их окон не видно войны. Я сказала, что доказывать им ничего не буду. Хотите свидетельств — дам все адреса, поезжайте в Чечню, проверьте. После всего этого я бы хотела спрятаться с Женей в какой-нибудь монастырь, но пока не получается так устроить, чтобы и после моей смерти за его могилкой ухаживали. Да и нельзя, говорят, его отсюда увозить, люди привыкли приезжать к нему».