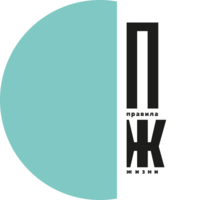Каково это — быть военным фотографом

ДЖЕЙМС НАХТВЕЙ, бывший фотокорреспондент журнала Time, основатель агентства VII, 66 лет,
Если честно снимаешь войну, получается антивоенная фотография.
Правду не нужно приукрашивать. Ее надо просто сказать, и часто бывает достаточно сделать это один раз.
Страх — это настолько фундаментальное чувство, что ему трудно дать определение. Но я могу сказать вам, что он делает с людьми. Если он вас парализует, он может вас убить. Но если он заставляет вас лучше видеть то, что происходит вокруг, он может спасти вам жизнь.
Конечно, я никогда не считал себя неуязвимым для пуль и снарядов. У меня в ногах полно осколков.
Если бы я мог перенестись в прошлое и сфотографировать любую войну? Крестовые походы. Шансы уцелеть были бы мизерные. Масштабы и средства, которыми тогда велись войны, поражают. Битва при Гастингсе показалась бы современному наблюдателю просто невероятной. А битвы Александра Македонского, когда люди дрались лицом к лицу? Трудно понять, как можно было заставить их пойти на это.
Человечество, конечно, сильно продвинулось вперед. Но во многих отношениях мы еще стоим на очень низкой ступени развития, когда инструментом для достижения тех или иных целей становится насилие. Не знаю, когда мы от этого избавимся... если вообще избавимся.
Главным оружием во время геноцида в Руанде были сельскохозяйственные инструменты. Мачете. Дубинки. Топоры. Пики. Лицом к лицу. Гибли толпы беспомощного народа. Дети. Мне это непонятно. Я знаю, что так было. Я видел последствия и знаю, что причиной всему были страх и ненависть. Но я не понимаю, как можно заставить такое количество людей идти на такие зверства, что называется, в открытую. Бомба может убить многих, но она очень безлична. Во времена Александра, по крайней мере, вооруженные люди дрались с вооруженными. Было какое-то равенство. Но пускать оружие в ход против беззащитных людей — это у меня просто в голове не укладывается.
Думаю, теперь я уже совсем не тот, кем был в самом начале. Я даже и не помню, каким я был.
Если в какой-то момент повлиять на исход событий могу только я, то я ненадолго перестаю быть репортером и помогаю людям. Несколько человек, которых собирались линчевать, уцелели, потому что я вмешался. Однажды я пытался спасти человека в Индонезии. Люди из мечети в Джакарте были оскорблены тем, что христиане устроили рядом с мечетью зал для игры в бинго. Они считали, что бинго — азартная игра, а это было против их религиозных убеждений. Поэтому они напали на зал и стали убивать охранников-христиан. Когда я спрашивал у прохожих, что случилось, один охранник побежал по улице — за ним гналась толпа. Я пытался помешать толпе его убить. Три раза они и вправду останавливались. Один из них хотел перерезать охраннику горло, но тут я встал на колени и принялся умолять его не делать этого. И он послушался. Опустил нож и помог охраннику подняться. Но потом толпа набросилась на меня с угрозами. На меня напирали, оттесняли назад. В это время другие покончили с охранником. Думаю, если бы кто-нибудь из них меня ударил, то и со мной бы разделались заодно. Потом я снова начал фотографировать охранника, но это их не волновало. Фотографировать они мне разрешили. А вот остановить себя — нет.
Мне кажется, причиной большинства конфликтов, о которых я делал репортажи, была не религия. Территории — да. Или власть. Или еще что-нибудь. А религия — только русло, в котором они развиваются.
Сейчас на мне серо-голубая рубашка, но я никогда не надел бы ее в зоне военных действий. Она может показаться армейской. Вызвать вопросы. Я люблю носить белое, потому что в нем прохладно, а я бываю в очень жарких местах. Кроме того, это нейтральный цвет. В нем больше сливаешься с окружающим.
Если вы хотите войти в контакт с людьми, у которых большое горе, которые боятся, которые в отчаянии, это нужно делать особым образом. Я двигаюсь чуть замедленно. Говорю чуть замедленно. Я даю им понять, что отношусь к ним с уважением. По тому, как вы смотрите на людей, они видят, насколько добрые у вас намерения. Все эти мелочи подмечают те, в чью жизнь вы хотите проникнуть.
Побывать в бою, слышать, как пули свистят у твоей головы, как вокруг рвутся снаряды, и выйти оттуда целым и невредимым — это, конечно, в каком-то смысле очень волнующе. Испытываешь мощный прилив адреналина. Но я занимаюсь своим делом не ради этого. Насколько мне известно, среди серьезных военных корреспондентов нет таких психов, которые идут туда за острыми ощущениями.
В честолюбии самом по себе нет ничего плохого. Но в опасной ситуации оно может повлиять на твою способность здраво соображать.
Я наполовину глухой. У меня плохие нервы и постоянно звенит в ушах, а бывает, я и вовсе ничего не слышу. Наверное, я оглох из-за того, что не вставлял в уши затычки. Потому что на самом деле я хотел слышать. Ты хочешь достичь максимальной силы ощущений — пусть даже они чересчур болезненны.
Мои работы дают очень слабое представление о том, что это такое — быть там.
Голод и болезни — это самые древние орудия массового уничтожения. Когда жгут поля и убивают животных, люди становятся уязвимыми. В Сомали такими методами были убиты сотни тысяч людей.
Чаще всего мои сны связаны не с тем, что я видел в разных местах, а с чувствами, которые я там испытывал. Больше мне не хотелось бы ничего говорить о моих снах.
Я вернулся из Франции 10 сентября, примерно в одиннадцать вечера, и даже не стал распаковывать сумки: на следующий день я опять уезжал. Утром я пил кофе, и вдруг снаружи раздался резкий, громкий звук. Звук был странный, и я не понял, что это. Я выглянул в окно и увидел первый горящий небоскреб. Сначала я подумал, что пожар произошел из-за несчастного случая. Конечно, мне стало любопытно, и я начал распаковывать камеры, чтобы пойти туда и посмотреть поближе. Но тут я услышал второй такой же звук и увидел, как загорелась вторая башня. Тут я догадался, что это теракт. И у меня возникло сильное подозрение, что за этим стоит Усама бен Ладен.
Моя квартира недалеко от Всемирного торгового центра, я добрался до него примерно за десять минут. И опять, как всегда, я бежал к тому месту, откуда бежали все остальные. Когда Северная башня начала падать, я уже стоял прямо под ней. Грохот был, как от водопада. Я поднял глаза — на меня рушилась лавина из стекла и стали. Это было одно из самых потрясающих зрелищ, какие я только видел. В каком-то смысле оно было прекрасно, и мне очень захотелось фотографировать. Но я понимал, что у меня нет времени. Я словно очутился в гиперпространстве. Нужно было усвоить столько информации, принять столько решений и преодолеть такие расстояния... Сейчас все это выглядит просто невероятным. У меня были считанные секунды на то, чтобы услышать это, увидеть, понять, что я не успею сделать снимок, осмотреться в поисках укрытия и добраться до него. Я заметил, что вход в отель «Миллениум» открыт, и кинулся в вестибюль. Он был застеклен, я понимал, что его разнесет вдребезги и мне нужно пробираться дальше. Я бросился к лифтам, увидел открытую кабину, вскочил внутрь и прижался спиной к стене. В этот момент все вокруг окутал мрак.
Мрак был полным и абсолютным. Я знал, что еще жив, только потому что задыхался. Я кашлял и хватал ртом воздух посреди гигантского облака, которое весь мир видел снаружи. Потом я опустился на четвереньки и пополз — я передвигался на ощупь в темноте, иногда подавая голос, чтобы проверить, нет ли рядом раненых. Но вокруг стояла тишина. Наконец я увидел вспышки, совсем неяркие. Поначалу я никак не мог понять, что это может быть. Но потом сообразил, что это машины мигают поворотниками, и понял, что выбрался на улицу. Я по-прежнему ничего толком не видел, но уже начал кое-как ориентироваться, и повернул на север. Через некоторое время сквозь темноту стал просачиваться свет, и я пошел на этот свет.
Я никогда не расстаюсь со своими камерами. Полиция пыталась выгнать всех с места происшествия, но я провел там весь день — снимал, все время ожидая, что меня вот-вот выгонят.
Сейчас меня задевает за живое одно фото. То, что было Всемирным торговым центром, превратилось в груду металла. Неба нет — только пыль и дым. Это настоящий апокалипсис. На снимке видна очень маленькая фигурка пожарного: он что-то ищет в развалинах. Но описывать это словами бессмысленно. Вся сила в картинке.
Я снимал, пока хватало света и пленки, — примерно до половины десятого. Потом отнес пленку в журнал Time. Это определенно был один из самых тяжелых рабочих дней в моей жизни. Чтобы попасть домой, мне пришлось пройти пешком несколько миль. Весь Манхэттен к югу от 14-й улицы был закрыт. Света не было. Над головой проносились самолеты. Везде были солдаты Национальной гвардии. Кордоны стояли чуть ли не через каждый квартал. В воздухе висела едкая гарь. Когда я добрался до дома, там не было ни электричества, ни горячей воды. Я зажег свечи — очень привычная для меня история. Я был в зоне военных действий. Только война пришла к нам домой.
Не думаю, что в нашей профессии можно уйти на покой.
Я никогда не выигрывал в лотерею, да и как фотограф я не слишком удачлив. Но мне везет в главном: я до сих пор жив. Ведь я рискую каждый день. По сравнению с этим любое другое везение — ерунда.
Как мне удается сохранять оптимизм? Очень просто. Люди, которые попадают в подобные ситуации, все равно не перестают надеяться. Если у них остается надежда, почему я должен ее терять?