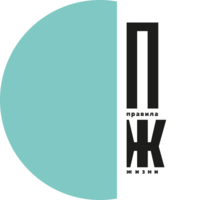«Достоевский — литературный титан. Это приговор»: большое эссе Дэвида Фостера Уоллеса о Федоре Достоевском
11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Писатель оказал влияние не только на русскую литературу, но и на мировую — его произведения неотъемлемая часть западного канона. В 1996 в The Village Voice появляется эссе Дэвида Фостера Уоллеса «Достоевский Джозефа Франка» (изначально — «Feodor’s Guide»). В нем автор «Бесконечной шутки» рассуждает о произведениях Достоевского, его творческом методе, необходимости знания контекста для адекватного восприятия текста читателем. Как часто бывает, этот текст является отражением и самого Уоллеса — портрет оборачивается автопортретом, благодаря которому мы можем еще немного приблизиться к пониманию его интеллектуальных и художественных построений.
Правила жизни публикует эссе в переводе Сергея Карпова. В марте следующего года оно выйдет в составе сборника «Посмотрите на омара» в издательстве «Гонзо».

Пролегоменически взглянем на две цитаты. Первая из Эдуарда Дальберга (если в английской культуре и был ворчун уровня Достоевского, то это он):
«Гражданин защищается от гения иконопочитанием. Словно по мановению палочки Цирцеи, божественные смутьяны переводятся в настенную вышивку со свиньями"[1].
Второе из тургеневских «Отцов и детей»:
— В теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем.
— Всё?
— Всё.
— Как? Не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить...
— Всё, — с невыразимым спокойствием повторил Базаров.
Итак, предыстория: в 1957-м некий Джозеф Франк, тогда тридцати восьми лет, профессор сравнительной литературы в Принстоне, готовил лекцию по экзистенциализму и начал изучать «Записки из подполья» Федора Михайловича Достоевского. Как может подтвердить всякий читавший, «Записки» (1864) — мощный, но невероятно странный маленький роман, и обе эти характеристики связаны с тем фактом, что книга одновременно и универсальна, и конкретна. «Болезнь», которую диагностировал сам у себя протагонист, — смесь мегаломании и презрения к себе, ярости и трусости, идеологического пыла и осознанной неспособности действовать по убеждениям (весь его парадоксальный и самоотрицающий характер) — превращает его в универсальную фигуру, в которой мы все находим частички себя: это такой же вечный литературный архетип, как Аякс или Гамлет. Но в то же время «Записки из подполья» и их Человека из Подполья невозможно по-настоящему понять без знаний об интеллектуальном климате России 1860-х, в частности о модном тогда среди радикальной интеллигенции фриссоне из-за утопического социализма и эстетического утилитаризма — идеологии, которую Достоевский презирал со всей той страстью, с какой может презирать только Достоевский.
Так или иначе, профессор Франк, пробираясь через бэкграунд конкретного контекста, чтобы представить студентам адекватную трактовку «Записок», заинтересовался тем, что прозу Достоевского можно использовать как мост между двумя разными способами интерпретировать литературу: чисто формальный эстетический подход vs социально-слэш-идеологическая критика, которую волнует только тематика и связанные с ней философские заключения[2]. Этот интерес плюс сорок лет научного труда вылились в первые четыре тома из планируемых пяти по исследованию жизни, времени и творчества Достоевского. Все книги изданы Princeton U. Press. Все четыре озаглавлены «Достоевский» и имеют подзаголовки: «Семена бунта, 1821–1849» («The Seeds of Revolt», 1976); «Годы испытаний, 1850–1859» («The Years of Ordeal», 1984); «Движение освобождения, 1860–1865» («The Stir of Liberation», 1986) и невероятно дорогое издание этого года в твердой обложке «Удивительные годы, 1865–1871» («The Miraculous Years», 1996)[*]. Профессору Франку сейчас должно быть не меньше семидесяти пяти, и, судя по фото на задней обложке «Удивительных лет», он не то чтобы пышет здоровьем[3], так что, вероятно, все серьезные специалисты по Достоевскому, затаив дыхание, ждут, протянет ли Франк, чтобы довести энциклопедическое исследование до начала 1880-х, когда Достоевский закончил четвертый из своих Великих Романов[4], прочел знаменитую «Пушкинскую речь» и умер. Но даже если пятый том о Достоевском не будет дописан, выход четвертого уже утвердил статус Франка как автора наиболее полной биографии одного из лучших писателей мира.
** Я хороший человек? В глубине души я действительно хочу быть хорошим человеком или только казаться хорошим человеком, чтобы меня одобряли люди (в том числе и я)? И есть ли разница? Как вообще понять, не вру ли я сам себе в моральном смысле? **
В каком-то смысле книги Франка — вообще не литературные биографии, по крайней мере не такие, как книга Эллмана о Джойсе или Бейта о Китсе. Прежде всего Франк столь же биограф, сколь и культурный историк: его цель — создать точный и исчерпывающий контекст для работ ФМД, поместить жизнь и творчество автора во внятное описание интеллектуальной жизни России XIX века. «Джеймс Джойс» Эллмана, уже практически ставший стандартом, по которому меряют большинство литературных биографий, даже не пытается углубляться в детали идеологии, политики или социальной теории так, как Франк. Франк же показывает, что обстоятельное чтение Достоевского невозможно без детального понимания культурных обстоятельств, в которых книги замыслены и развитию которых должны были способствовать. Это потому, утверждает Франк, что зрелые работы Достоевского — идеологические в своей основе и не могут быть по-настоящему поняты, если не вникнуть в питавшие их полемические течения. Другими словами, сплав универсального и частного, характеризующий «Записки из подполья»[5], на самом деле присущ всем лучшим произведениям ФМД — писателя, чье «очевидное желание», как говорит Франк, — «драматизировать свои морально-духовные темы на фоне русской истории».
Еще одна нестандартная черта биографии Франка — критическое внимание, которое он уделяет самим книгам Достоевского. «Жизнь Достоевского достойна упоминания благодаря этим шедеврам, — говорится в предисловии к "Чудесным годам", — и моя цель, как и в предыдущих томах, постоянно держать их на переднем плане, нежели рассматривать в качестве дополнения к жизни per se». Как минимум треть последнего тома занимают внимательные прочтения вещей, написанных Достоевским за эти поразительные пять лет: «Преступление и наказание», «Игрок», «Идиот», «Вечный муж» и «Бесы»[6]. Эти прочтения стремятся быть скорее экспликативными, чем аргументативными или вырастающими из какой-либо теории; их цель — показать как можно понятней, что́ своими книгами хотел сказать сам Достоевский. Даже несмотря на то, что такой подход предполагает, будто интенционального заблуждения[7] вовсе не существует, на первый взгляд все равно кажется, что он оправдан общей идеей Франка — всегда отслеживать и объяснять корни романов во взаимодействии Достоевского с русской историей и культурой[8].
** Что конкретно значит «вера»? В смысле «религиозная вера», «вера в Бога» и т. д. Разве не попросту безумно верить в то, чему нет доказательства? Есть ли вообще какая-то разница между тем, что мы зовем «верой», и каким-нибудь жертвоприношением девственниц вулканам ради хорошей погоды у примитивных племен? Как можно верить до того, как представлена достаточная причина верить? Или потребность в вере каким-то образом и есть сама по себе достаточная причина верить? Но тогда о какой конкретно потребности мы говорим? **
Чтобы по заслугам оценить достижение профессора Франка — и достижение не только в усвоении и переработке миллионов сохранившихся страниц черновиков, заметок, писем и дневников Достоевского, биографий современников и критических исследований на сотне языков, — важно понимать, как много разных подходов к биографии и критике он пытается сочетать. Стандартные литературные биографии выделяют автора и его личную жизнь (особенно неприглядные или невротические темы) и по большей части игнорируют специфический исторический контекст, в котором он писал. Другие исследования, особенно с теоретической подоплекой, почти исключительно фокусируются на контексте, считая автора и его книги лишь производными предрассудков, динамики власти и метафизических иллюзий эпохи. Некоторые биографии словно исходят из того, что их субъекты давно полностью изучены, и потому тратят все время на отслеживание связи личной жизни с литературными смыслами, которые биограф считает уже установленными и неоспоримыми. С другой стороны, многие «критические исследования» нашей эпохи относятся к книгам герметически, не беря в расчет обстоятельства написания и убеждения автора, которые могут объяснить не только о чем его творчество, но и почему и откуда появилась конкретная личная магия конкретных личных авторских личности, стиля, голоса, видения и т. д.[9]
** Правда ли, что истинная цель моей жизни — просто пережить как можно меньше боли и как можно больше удовольствия? Мое поведение показывает, что верю я именно в это — по крайней мере по большей части. Но разве это не эгоистичный образ жизни? И ладно эгоистичный — разве он не до ужаса одинокий? **
Так что в плане биографий Франк пытается делать нечто амбициозное и стоящее. В то же время первые четыре тома составляют очень подробный и взыскательный труд об очень многослойном и трудном авторе — писателе, чье время и культура нам чужды. И кажется неправильным ждать доверия к моей рекомендации исследований Франка без какого-нибудь доказательства, почему романы Достоевского должны быть важны для нас, читателей в Америке 1996-го. Но доказать я могу только грубо, поскольку я не литературный критик и не эксперт по Достоевскому. Но зато я живой американец, который одновременно пытается писать и любит читать и который благодаря Джозефу Франку почти два последних месяца провел погрузившись в достоевсконалию.
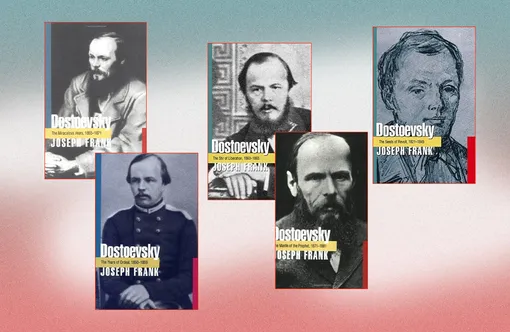
Достоевский — литературный титан, и в каком-то смысле это смертный приговор — ведь так легко относиться к нему как к очередному покрытому сепией Каноническому Автору, обожаемому посмертно. Его произведения и огромная гора критики, которую они породили, — обязательные приобретения для библиотеки любого колледжа... где эти книги, пожелтевшие, пахнущие, как пахнут все реально старые библиотечные книги, стоят в ожидании, когда кто-нибудь придет писать курсовую. По-моему, Дальберг в основном прав. Сделать кого-то иконой значит сделать его абстракцией, а абстракции неспособны на содержательную коммуникацию с живыми людьми[10].
** Но если я решу, что в моей жизни есть другая, не такая эгоистичная, не такая одинокая цель, разве причиной этого решения не будет жажда не быть таким одиноким — т. е. пережить как можно меньше боли в целом? Может ли быть неэгоистичным решение стать не таким эгоистичным? **
И правда, у книг Достоевского есть чуждые нам и отталкивающие черты. Русский язык, как известно, трудно переводить на английский, а если прибавить к этой трудности архаизмы литературного языка XIX века, то неудивительно, что проза/диалоги Достоевского часто кажутся манерными, плеонастическими и дурацкими[11]. Плюс высокопарность культуры, которую населяют персонажи Достоевского. Например, когда люди злятся, они частенько «потрясают кулаками», или зовут друг друга «подлецами», или «налетают» друга на друга[12]. Говорящие пользуются восклицательными знаками в таких количествах, какие теперь увидишь только в комикс-стрипах. Социальный этикет чопорный до абсурдности: люди вечно «навещают» друг друга и их либо «принимают», либо «не принимают», все подчиняются обычаям в стиле рококо, даже в припадке ярости[13]. У всех длинные и труднопроизносимые фамилии и имена плюс отчество, плюс иногда уменьшительно-ласкательное имя, так что приходится чуть ли не схемы персонажей рисовать. В изобилии малопонятные военные звания и бюрократические иерархии плюс жесткие и откровенно безумные классовые различия, проявление которых трудно запомнить и понять — особенно потому, что экономические реалии старого русского общества такие странные (например, даже нуждающийся «бывший студент» вроде Раскольникова или безработный чиновник вроде Человека из Подполья могут почему-то позволить себе слуг).
Суть в том, что тут не одна только смерть-через-канонизацию: на пути нашего понимания Достоевского стоят реальные и отчуждающие моменты, с которыми надо как-то справляться — либо изучить все эти незнакомые штуки, чтобы в них не путаться, либо просто смириться (так же, как мы смиряемся с расистскими/сексистскими элементами в некоторых других произведениях XIX века), кривиться и читать дальше.
Но важнее (и да, возможно, очевиднее) то, что некоторые произведения искусства действительно стоят дополнительных усилий по преодолению всех препятствий на пути к их пониманию; и среди них — книги Достоевского. И не только из-за того, что он один из основателей западного канона, — более того, как раз вопреки этому. Вообще-то канонизация и программное изучение размывают тот факт, что Достоевский не только великий — он еще и интересный. В его романах всегда чертовски хорошие сюжеты — яркие, запутанные и от начала до конца драматические. Там и убийства, и покушения на убийства, и полиция, и ссоры неблагополучных семей, и шпионы, крутые парни, прекрасные падшие женщины, елейные прохвосты, изнуряющие болезни, внезапные наследства, вкрадчивые злодеи, заговоры и шлюхи.
Конечно, то, что Достоевский может рассказать сочную историю, еще не делает его великим. Иначе Джудит Кранц и Джон Гришэм тоже были бы великими писателями, а они по всем — кроме совершенно коммерческих — стандартам даже не особенно-то и хорошие. Главное, что мешает Кранц, Гришэму и многим другим одаренным рассказчикам быть хорошими в художественном смысле, — у них нет таланта (или интереса) к созданию персонажей: их захватывающие сюжеты населены грубоватыми и неубедительными карикатурами. (Справедливости ради, еще есть писатели, которые хорошо умеют создавать сложных и полностью реализованных человеческих персонажей, но как будто бы не могут их вставить в правдоподобный и интересный сюжет. Плюс есть— зачастую среди академического авангарда — такие, которые не умеют / не заинтересованы ни в сюжете, ни в персонажах, и живость и привлекательность их книг полагается целиком на возвышенные метаэстетические замыслы.)
Главное в персонажах Достоевского — они живые. Тут я имею в виду не просто что они полностью реализованы, разработаны или «реалистичны». Лучшие из них навсегда остаются жить в нас, как только мы их повстречаем. Вспомните гордого и жалкого Раскольникова, наивного Девушкина, прекрасную и обреченную Настасью из «Идиота»[14], раболепного Лебедева и Ипполита с его паучьими снами из того же романа, гениального маверика-детектива Порфирия Петровича из «ПиН» (без которого, возможно, не существовало бы коммерческой детективной литературы с эксцентричными гениальными копами), Мармеладова — отвратительного и достойного жалости пьянчугу или тщеславного и благородного приверженца рулетки Алексея Ивановича из «Игрока», проституток с золотым сердцем Соню и Лизу, цинично невинную Аглаю или невероятно отталкивающего Смердякова — живое олицетворение мерзкой мизантропии, в ком лично я вижу те частички себя, которые не желаю видеть, — или идеализированных и слишком-человеческих Мышкина и Алешу — соответственно безнадежное воплощение Христа и торжествующего юного паломника. Эти и многие другие создания ФМД живые (сам Франк зовет это «неизмеримой энергией») не потому, что они просто мастерски нарисованные типы или грани человека, но потому, что, действуя в достоверных и морально увлекательных сюжетах, они драматизируют глубочайшие черты всех людей, черты самые проблемные, самые серьезные — те, с которыми больше всего стоит на кону. Плюс, не прекращая быть 3D-личностями, персонажи Достоевского умудряются олицетворять целые жизненные идеологии и философии: Раскольников — разумный эгоизм интеллигенции 1860-х, Мышкин — мистическую христианскую любовь, Человек из Подполья — влияние европейского позитивизма на русский характер, Ипполит — борьбу личной воли против неизбежности смерти, Алексей — извращенную славянофильскую гордость перед лицом европейского декаданса и т. д. и т. п.
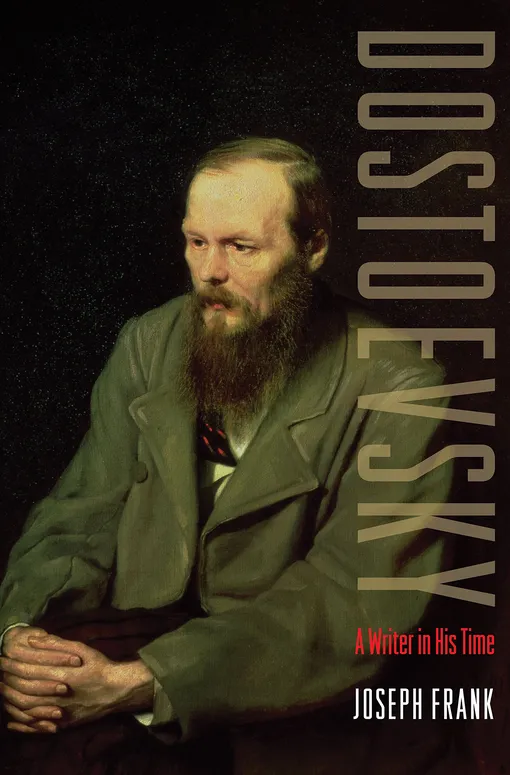
Суть здесь такова: Достоевский писал о том, что действительно важно. Писал о личности, моральной ценности, смерти, воле, сексуальной любви и духовной любви, жадности, свободе, одержимости, разуме, вере, самоубийстве. И при этом не урезал персонажей до носителей идеи, а книги — до трактатов. Главным для него всегда было «что значит быть человеком» — т. е. как быть настоящей личностью, тем, чья жизнь основана на ценностях и принципах, а не просто особенно изворотливым животным с инстинктом самосохранения.
** Возможно ли по-настоящему любить других людей? Если я одинок и мне больно, любой вне меня — потенциальное облегчение, он мне нужен. Но можно ли по-настоящему любить то, что так сильно нужно? Разве важная часть любви — это не заботиться больше о потребностях другого? Как мне подчинять мою собственную подавляющую потребность чужим потребностям, которых я даже не чувствую? И опять же, если у меня не получится, то я обречен на одиночество, чего я точно не хочу... и вновь я пытаюсь преодолеть эгоизм и собственные интересы. Есть ли вообще выход? **
Известный парадокс: Достоевский, чья проза известна состраданием и моральной строгостью, в реальной жизни во многом был засранцем — тщеславным, высокомерным, ехидным, эгоистичным. Заядлый игрок, он обычно оказывался на мели и постоянно ныл о своей нищете и всегда изводил друзей и коллег просьбами об очередном займе, которые редко отдавал, хранил мелкие и давние обиды из-за денег и мог заложить пальто своей хрупкой жены, чтобы было на что играть, и т. д.[15]
Но также известно, что жизнь Достоевского была полна невероятных страданий, драм, трагедий и героизма. Его московское детство, по-видимому, выдалось таким несчастным, что в книгах Достоевский ни разу не помещает действие в Москву и ни разу ее не упоминает[16]. Когда ФМД было семнадцать, его безразличного отца-неврастеника убили собственные крепостные. Семь лет спустя публикация первого романа[17] и одобрение от таких критиков, как Белинский и Герцен, сделали Достоевского литературной звездой в то же самое время, когда он втянулся в кружок Петрашевского — группу интеллектуалов-революционеров, замысливших разжечь крестьянский бунт против царя. В 1849-м Достоевского арестовали как заговорщика, осудили, приговорили к смерти и подвергли знаменитой «инсценированной казни петрашевцев»: заговорщикам надели повязки на глаза, привязали к столбам и довели весь расстрельный процесс до стадии «Целься!», прежде чем якобы в «последнюю минуту» прискакал нарочный с помилованием от государя. Приговор заменили каторгой, и эпилептик Достоевский в итоге провел десять лет в мягком сибирском климате, вернувшись в Санкт-Петербург в 1859-м и обнаружив, что русский литературный мир совершенно его позабыл. Потом умерла его жена, медленно и страшно, потом умер преданный ему брат, потом закрылся их журнал «Время», потом его эпилепсия усугубилась так, что он постоянно боялся, что умрет или сойдет с ума от припадков[18]. Наняв 22-летнюю стенографистку, чтобы вовремя закончить «Игрока» и удовлетворить издателя, с которым он подписал безумный контракт «закончить-к-определенной-дате-или-забыть-про-роялти-за-все-что-успел-написать», через полгода Достоевский женился на этой девушке и сразу за тем бежал с ней от кредиторов «Времени», несчастливо скитался по Европе, чье влияние на Россию он презирал[19], радовался рождению дочери, которая почти тут же умерла от пневмонии, постоянно писал без копейки в кармане, после серьезных эпилептических припадков часто страдал от клинической депрессии, проходил циклы маньячных рулеточных запоев и последующей сокрушительной ненависти к себе. Четвертый том Франка повествует о многих европейских невзгодах Достоевского на основе дневников его новой молодой жены Анны Сниткиной[20], которая благодаря терпению и супружеской добродетели вполне могла бы считаться святой покровительницей современных групп созависимых[21].
** Что такое «американец»? Есть ли у нас, американцев, что-то общее, что-то важное — или только то, что мы все живем в одних и тех границах и потому должны подчиняться одним и тем же законам? Чем конкретно Америка отличается от других стран? Правда ли в ней есть что-то уникальное? Что эта уникальность за собой влечет? Мы часто говорим о наших особых правах и свободах, но есть ли и особые обязанности, если ты американец? И если да, то обязанности перед кем? **
Биография Франка охватывает и личное, в подробностях, и он не пытается замять или обелить неприятные моменты[22]. Но идея Франка требует, чтобы он все время стремился связать личную и психологическую жизнь Достоевского с его книгами и стоящей за ними идеологией. То, что Достоевский в общем и целом идеологический писатель[23], делает его особенно конгениальным субъектом для контекстуального подхода Джозефа Франка к биографии. И четыре существующих тома «Достоевского» ясно показывают, что ключевым, катализирующим событием в жизни ФМД в идеологическом плане была инсценировка казни 22 декабря 1849 года — те пять — десять секунд, когда этот слабый, невротичный, углубленный в себя молодой писатель верил, что сейчас умрет. В результате Достоевский пережил нечто вроде обращения в веру, хотя тут все немного сложнее, потому что христианские убеждения, которые отныне будут наполнять его творчество, не принадлежат какой-либо церкви или традиции, а связаны с неким мистическим русским национализмом и политическим консерватизмом[24], из-за которых в следующем веке Советы подавили или исказили большинство работ Достоевского[25].

** Может ли жизнь этого самого Иисуса Христа чему-то меня научить, даже если я не верю или не могу поверить, что он божественного происхождения? Что я должен извлечь из того, что кто-то, являясь родственником Бога и потому способный одним словом превратить крест в какой-нибудь цветочный горшок, все же добровольно дал прибить себя к нему и умер? Даже если предположить, что он божественного происхождения, — а сам он об этом знал? Он знал, что может уничтожить крест одним словом? Он знал заранее, что смерть будет только временной (потому что тогда и я бы мог туда влезть, если б знал, что после шести часов боли меня ждет вечность праведного блаженства)? Да и важно ли вообще это все? Можно ли верить в Христа, Мухаммеда или Кого Угодно, даже если я не верю, что они реально родственники Бога? Только тогда что это будет значить — «верю»? **
Кажется, самое важное: предсмертный опыт Достоевского превратил типичного тщеславного и модного молодого писателя — разумеется, очень талантливого писателя, но все же основным стремлением которого была литературная слава, — в человека, который горячо верил в моральные/духовные ценности[26], скорее даже в того, кто верил, что жизнь, прожитая без моральных/духовных ценностей, не просто неполная, но и низменная[27].
Почему Достоевский реально так бесценен для американских читателей и писателей: он, кажется, владеет такими уровнями страсти, убеждения и вовлечения в глубокие моральные темы, которые мы себе — здесь и сейчас[28] — не можем или не позволяем иметь. Джозеф Франк проделывает восхитительную работу, отслеживая взаимосвязи факторов, сделавших это возможным: собственные убеждения и таланты ФМД, идеологический и эстетический климат его эпохи и т. д. Но думаю, дочитав книги Франка, любой серьезный американский читатель/писатель всерьез задумается, почему романисты нашего времени и места выглядят такими тематически поверхностными и легковесными, такими морально обнищавшими по сравнению с Гоголем или Достоевским (или даже по сравнению с менее яркими светочами вроде Лермонтова или Тургенева). Биография Франка побуждает спросить себя, почему мы требуем от нашего искусства иронической дистанции от горячих убеждений или отчаянных вопросов, заставляя современных писателей либо превращать их в приколы, либо скрывать под обличьем каких-нибудь формальных фокусов вроде интертекстуальных цитат или неуместных сопоставлений, вставлять реально важные вещи в кавычки как часть каких-нибудь многозначных остраняющих завитушек или тому подобной хренотени.
Отчасти объяснение тематического обнищания нашей литры, очевидно, затрагивает наш век и ситуацию. Старые добрые модернисты среди других своих достижений возвысили эстетику до уровня этики — или, может, даже метафизики, — и Серьезные Романы после Джойса в основном ценятся и изучаются за гениальность формы. Модернистское наследие и в том, что мы априори предполагаем, будто «серьезная» литература должна быть эстетически отдалена от реальной живой жизни. Добавьте к этому требование текстуального самосознания, навязанное постмодернизмом[29] и теорией литературы, — и, наверное, будет справедливо сказать, что Достоевский и Ко были свободны от определенных культурных ожиданий, которые жестко ограничивают способность быть «серьезными» у наших романистов.
Но также справедливо заметить вместе с Франком, что Достоевский работал под собственными культурными ограничениями: репрессивное правительство, государственная цензура и в особенности популярность постпросвещенческой европейской мысли, в основном идущей против дорогих ему убеждений, о которых ему хотелось писать. Для меня действительно самое поразительное и вдохновляющее в Достоевском не просто то, что он был гением; еще он был смелым. Он не бросил переживать о своей литературной популярности, но не бросил и распространять немодные темы, в которые верил сам. И распространял их, не игнорируя (в наши дни a. k. a. «превосходя» или «ниспровергая») недружелюбные культурные обстоятельства, в которых писал, но бросая им вызов, не боясь назвать их конкретно и поименно.
Вообще-то неправда, что наша литературная культура нигилистична — по крайней мере не в радикальном смысле, как у тургеневского Базарова. Ведь все-таки есть определенные тенденции, которые мы считаем плохими, качества, которые мы ненавидим и которых боимся. Среди них сентиментальность, наивность, устарелость, фанатизм. Наверное, лучше звать культуру нашего современного искусства врожденным скептицизмом. Наша интеллигенция[30] не доверяет твердым убеждениям, открытым признаниям. Материальная страсть — это одно, но идеологическая страсть нам уже противна на каком-то глубинном уровне. Мы верим, что идеология теперь находится целиком в сфере полномочий враждующих комитетов политических действий и групп интересов, пытающихся урвать кусок большого зеленого пирога... и, оглядываясь, мы видим, что так оно и есть. Но Достоевский Франка указал бы (или скорее вскочил бы, потряс кулаками, налетел бы и воскликнул), что если так оно и есть, то только потому, что мы сами ее бросили. Что мы сами оставили ее фундаменталистам, чьи безжалостная закостенелость и готовность осуждать демонстрируют, что они сами понятия не имеют о «христианских ценностях», которых требуют от других. Правым народным ополченцам и фанатам теории заговора, чья паранойя предполагает, будто правительство куда более организованно и эффективно, чем оно есть на самом деле. И — в науке и искусстве — все более абсурдному и догматичному движению Политической Корректности, чья одержимость одними лишь формами высказывания и дискурса слишком хорошо демонстрирует, какими изнеженными и эстетизированными стали наши лучшие либеральные инстинкты, как далеки мы от того, что на самом деле важно, — от мотива, чувства, убеждения.
Кульминационно взглянем всего на один отрывок из знаменитого «Необходимого объяснения» Ипполита из «Идиота»: «Кто посягает на единичную "милостыню", — начал я, — тот посягает на природу человека и презирает его личное достоинство. Но организация "общественной милостыни" и вопрос о личной свободе — два вопроса различные и взаимно себя не исключающие. Единичное добро останется всегда, потому что оно есть потребность личности, живая потребность прямого влияния одной личности на другую. <...> Почем вы знаете, Бахмутов, какое значение будет иметь это приобщение одной личности к другой в судьбах приобщенной личности?»
Вы можете себе представить, чтобы любой из наших важных современных романистов позволил своему персонажу сказать что-то подобное (и не просто напыщенному лицемеру, чтобы потом какой-нибудь ироничный герой его подколол, а в рамках десятистраничного монолога человека, размышляющего, покончить с собой или нет)? Причина, по которой вы не можете представить, — та же самая, по которой он не позволит себе это сделать: такой романист стал бы в наших глазах претенциозным, вычурным и глупым. Прямая подача подобной речи в Серьезном Романе сегодня спровоцирует не возмущения или обличения, но хуже — вздернутую бровь и весьма холодную улыбку. Ну, может, если романист действительно важный, — сухую насмешку в «Нью-йоркере». Такого романиста (и вот вам самое истинное представление об аде нашего века) подвергнут публичному осмеянию.
Так что он — мы, писатели, — не посмеет (не сможет) пробовать продвигать идеологию в серьезном искусстве[31]. Это как «Кихот» Менара[†]. Читателям было бы или смешно, или стыдно за нас. Если это правда (а это правда), кого винить за несерьезность нашей серьезной литературы? Культуру, смехачей? Но они бы не стали (не смогли бы) смеяться, если бы морально страстный, страстно моральный текст был также гениальным и лучезарно человеческим. Но как его сделать таким? Как — современному писателю, даже талантливому современному писателю — набраться смелости, чтобы хотя бы попробовать? Ведь никаких формул и гарантий нет. Хотя есть образцы. Один из них книги Франка сделали конкретным, живым и чертовски поучительным.
1996 (первая публикация — в том же году в журнале The Village Voice под названием «Feodor’s Guide» — «Гид по Федору», с отсылкой к путеводителям «Fodors Guide»)
Cноски и пояснения
[*] Позже вышел том «Мантия пророка, 1871–1881» («The Mantle of the Prophet», 2002) и синопсис всех томов «Писатель в своем времени» («A Writer in His Time», 2009).
[†] Отсылка к рассказу Борхеса «Пьер Менар, автор "Дон Кихота"».
[1] Can These Bones Live? // The Edward Dahlberg Reader. New Directions, 1957.
[2] Конечно, современная теория литературы старается показать, что между этими двумя способами прочтения разницы нет — или, точнее, что эстетику можно свести к идеологии. Для меня одна из причин, почему общая задумка Франка так важна, — она показывает совершенно другой способ объединить формальное и идеологическое прочтения: подход, который и близко не такой заумный, редуктивный (иногда) и обламывающий удовольствие (слишком часто), как теория литературы.
[3] Могу представить, что он вложил в проект такое количество библиотечного времени, что из любого бы душу вынуло.
[4] Среди поразительных параллелей с Шекспиром есть факт, что ФМД в «зрелый период» написал четыре романа, считающихся абсолютными шедеврами: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» (a. k. a. «The Demons», a. k. a. «The Devils», a. k. a. «The Possessed») и «Братья Карамазовы», — в каждом из которых есть убийства и (с некоторыми оговорками) трагедии.
[5] Третий том, «Движение освобождения», содержит очень хорошее экспликативное прочтение «Записок», рассматривающее их как ответ на «разумный эгоизм», ставший модным после романа «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, и показывающее Человека из Подполья обычной пародийной карикатурой. Объяснение Франка широко распространенного неправильного прочтения «Записок» (многие не считают книгу conte philosophiqueÄ и полагают, что Достоевский создал Человека из Подполья как серьезный архетип уровня Гамлета) также объясняет, почему наиболее известные романы ФМД зачастую читаются и почитаются без реального понимания их идеологических предпосылок: «Пародийная функция персонажа [Человека из Подполья] часто размывается яркой жизненностью его художественного воплощения». Т. е. иногда Достоевский был хорош себе же во вред.
[6] Последнюю книгу Франк называет «Дьяволы» («The Devils»). О значительных проблемах перевода русского литературного языка свидетельствует уже один тот факт, что у многих книг ФМД несколько альтернативных английских названий: первая версия «Записок из подполья», что я прочитал, вообще называлась «Воспоминания из темного подвала» («Memoirs from a Dark Cellar»).
[7] Профессор Франк ни разу за четыре тома не упоминает Интенциональное Заблуждение* и никак не пытается опровергнуть претензию, что в его биографии оно встречается сплошь и рядом. В каком-то смысле это молчание понятно, ведь тон, который Франк сохраняет на протяжении всей интерпретации текстов, максимально сдержанный и объективный: Франк не предлагает никакой конкретной теории или метода декодирования Достоевского и избегает прений с критиками, выбравшими каждый свой ракурс для рассмотрения творчества ФМД. Когда Франк хочет поставить под сомнение или раскритиковать определенное толкование (например, в редких нападках на бахтинские «Проблемы поэтики Достоевского» или в действительно блестящем ответе на «Достоевский и отцеубийство» Фрейда в приложении к первому тому), он всегда просто указывает, что определенным заключениям критика противоречат исторические факты и/или собственные заметки и письма Достоевского. Франк никогда не говорит, что кто-то не прав, а только что у кого-то на руках не все факты.
Что еще здесь интересно: становление Джозефа Франка как литературоведа пришлось на время, когда в американских ученых кругах окопалась «новая критика», а старое доброе Интенциональное Заблуждение — так или иначе краеугольный камень «новой критики»; и потому, когда Франк не отвергает или не опровергает ИЗ, но пишет так, будто его вообще не существует, заманчиво представлять обуревающие его всевозможные чудесные отцеубийственные течения — Франк молча и пренебрежительно фыркает в адрес своих старых учителей. Но если вспомнить, что удаление в «новой критике» автора из интерпретивного уравнения расчистило дорогу для постструктуралистской теории литературы (для деконструкции, лаканского психоанализа, марксистско-феминистских культурных исследований, нового историзма Фуко/Гринблатта и проч.) и что теория литературы делает с самим текстом то же, что «новая критика» сделала с автором текста, — начинает казаться, что Джозеф Франк резко отворачивается от теории** и пытается создать настолько иную систему чтения и интерпретации, что это (т. е. подход Франка) кажется более убедительным штурмом территории теории литературы, чем любая фронтальная атака.
* На случай, если с теории литературы для первокурсников прошло много времени: Интенциональное Заблуждение = «оценивать смысл или успех произведения искусства по выраженному или очевидному намерению автора». ИЗ и Аффективное Заблуждение (= «оценивать произведение искусства по его результату, особенно по эмоциональному эффекту) — два больших запрета объективной текстуальной критики, особенно "новой критики".
** (данная теория литературы — большая радикально-интеллектуальная мода нашего века, примерно как нигилизм и разумный эгоизм в России времен ФМД)
[8] Но, пожалуй, честным будет предупредить, что истолкование Франком романов чрезвычайно близко к тексту и детально, иногда даже микроскопически, и что чтение будет медленным. А также что его трактовки как будто требуют, чтобы романы Достоевского были еще свежи в голове у читателя: вы получите несравнимо больше из его рассуждений, если вернетесь и действительно перечитаете роман, о котором он пишет. Хотя неясно, такой ли уж это недостаток, если учесть, что привлекательность литературной биографии отчасти в том и заключается, что она служит мотивом/поводом что-то перечитать.
[9] Эти характерные отличительные особенности — одна из главных причин, почему читатели любят автора. Часто всего за пару абзацев можно определить, что это написал Диккенс, или Чехов, или Вулф, или Сэлинджер, или Кутзее, или Озик. Это качество почти невозможно непосредственно описать или объяснить — в основном оно кажется атмосферой, каким-то ароматом менталитета, и все попытки критиков редуцировать его до вопросов «стиля» почти поголовно хромают.
[10] Достаточно всего один семестр попреподавать литературу в колледже, чтобы понять: самый легкий способ убить жизненность автора для потенциального читателя — заявить, что автор опередил свое время и потому «великий» или «классик». Потому что тогда автор становится для студентов чем-то навроде лекарства или овощей, которые какие-то взрослые объявили «полезными» и которые «должны нравиться», после чего у студентов тут же потухают глаза и они просто совершают обязательные телодвижения, чтобы прочитать критику и написать доклад, не почувствовав ничего реального или касающегося их лично. Это как выкачать из комнаты весь кислород перед тем, как разжечь огонь.
[11] ...Особенно в викторианских переводах миссис Констанс Гаррет, которая в 1930–1940-х захватила переводческий рынок Достоевского и Толстого и в чьем исполнении «Идиот» содержит такие моменты (привожу практически наугад): «"Nastasya Filippovna!" General Epanchin articulated reproachfully...»; «"I am very glad I’ve met you here, Kolya," said Myshkin to him. "Can’t you help me? I must be at Nastasya Filippovna’s. I asked Ardelion Alexandrovitch to take me there, but you see he is asleep. Will you take me there, for I don’t know the streets, nor the way?"»; «...The phrase flattered and touched and greatly pleased General Ivolgin: he suddenly melted, instantly changed his tone, and went off into a long, enthusiastic explanation...»Ä
И даже в восхваляемых новых переводах Ричарда Пивира и Ларисы Волохонской издательского дома Knopf стиль (например, в «Преступлении и наказании») все еще часто странный и напыщенный: «"Enough!" he said resolutely and solemnly. "Away with mirages, away with false fears, away with spectres!... There is life! Was I not alive just now? My life hasn’t died with the old crone! May the Lord remember her in His kingdom and — enough, my dear, it’s time to go! Now is the kingdom of reason and light and... and will and strength... and now we shall see! Now we shall cross swords!" he added presumptuously, as if addressing some dark force and challenging it»ÄÄ. Эм-м, а почему не просто «обращаясь к какой-то темной силе»? Разве можно обратиться к темной силе, не вызвав ее перед этим? Или в русском оригинале что-то не дает фразе выше казаться избыточной, ходульной, да просто плохой в том же смысле, в каком плохим кажется предложение: «"Пойдем!" — сказала она, обращаясь к спутнице и приглашая присоединиться»? Если да, то почему не признать, что на английском фраза все равно неудачная, и не заменить ее? Или переводчикам художественной литературы нельзя трогать синтаксис оригинала? Но русский — флективный язык, в нем вместо порядка слов — падежи и склонения, так что переводчики в любом случае трогают синтаксис, когда переводят предложения Достоевского в нефлективный английский. Трудно понять, почему эти переводы должны быть такими громоздкими.
Ä У Достоевского соответственно:
«—Настасья Филипповна! — убеждающим, но встревоженным голосом произнес генерал»; «— Я очень рад, что вас здесь встретил, Коля, — обратился к нему князь, — не можете ли вы мне помочь? Мне непременно нужно быть у Настасьи Филипповны. Я просил давеча Ардалиона Александровича, но он вот заснул. Проводите меня, потому я не знаю ни улиц, ни дороги»; «Фраза польстила, тронула и очень понравилась: генерал вдруг расчувствовался, мгновенно переменил тон и пустился в восторженно-длинные объяснения».
Ä Ä «— Довольно! — произнес он решительно и торжественно, — прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения!.. Есть жизнь! Разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе с старою старухой! Царство ей небесное и — довольно, матушка, пора на покой! Царство рассудка и света теперь и... и воли, и силы... и посмотрим теперь! Померяемся теперь! — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее».
[12] Что вообще значит «налететь» на кого-то? В каждом романе ФМД это случается по десятку раз. Что, «налететь», чтобы избить? Чтобы наорать? А почему так и не написать при переводе?
[13] См. случайный пример из нового одобренного критиками исполнения «Записок из подполья» от Пивира и Волохонской: «"Mr. Ferfichkin, tomorrow you will give me satisfaction for your present words!" I said loudly, pompously addressing Ferfichkin. "You mean a duel, sir? At your pleasure," the man answered»Ä.
Ä «— Господин Ферфичкин, завтра же вы мне дадите удовлетворенье за ваши сейчашние слова! — громко сказал я, важно обращаясь к Ферфичкину. "— То есть дуэль-с? Извольте, — отвечал тот".
[14] (...которая, как Кэдди у Фолкнера, была «обречена и знала об этом» и чей героизм состоит в ее надменном неповиновении року, который она же призывает на свою голову. ФМД как будто бы первый писатель, осознавший, как сильно многие любят свое страдание, как они им пользуются и как на него полагаются. Ницше сделает из прозрения Достоевского краеугольный камень для собственной разрушительной атаки на христианство, и это иронично: в нашей культуре «просвещенного атеизма» мы все очень даже дети Ницше, его идеологические наследники, а без Достоевского не было бы Ницше, и в то же время Достоевский — один из самых глубоко религиозных писателей).
[15] Франк ничего из этого не услащает, но из его биографии мы узнаем, что характер Достоевского был скорее противоречивым, чем засранским. Несмотря на непомерные литературные амбиции, он всю жизнь мучился тем, что ему казалось художественной неполноценностью; пиявка и мот, он все же добровольно принял на себя финансовую ответственность за пасынка, за скверную и неблагодарную семью покойного брата и за долги знаменитого литературного журнала «Время», где они с братом были редакторами. В четвертом томе Франка становится ясно, что именно эти благородные долги, а не какое-то там транжирство, вынудили м-ра и м-с ФМД отправиться в Европу, дабы избежать долговой тюрьмы, и что как раз на курортах Европы игровая мания Достоевского и вышла из-под контроля.
[16] Иногда эта аллергия становится до ужаса сильна, как, например, в начале второй части «Идиота», когда князь Мышкин (протагонист) отправляется на полгода из Санкт-Петербурга в Москву: «О приключениях князя в Москве и вообще в продолжение его отлучки из Петербурга мы можем сообщить довольно мало сведений», — даже несмотря на то, что рассказчик имеет доступ ко всевозможным событиям вне СПб. Франк не распространяется о москвофобии ФМД; трудно понять, откуда она такая.
[17] = «Бедные люди», стандартный «социальный роман», который обрамляет (довольно ванильную) любовную историю мрачнейшими изображениями городской нищеты, чтобы в итоге пробудить в читателе одобрение левых социалистов.
[18] Это правда, что эпилепсия ФМД, включая мистические озарения, случавшиеся перед припадками, занимает в биографии Франка сравнительно немного места, и рецензенты вроде Джеймса Л. Райса из «Лондон таймс» (он сам автор книги о Достоевском и его эпилепсии) жаловались, что Франк «ни словом ни упоминает о хроническом влиянии болезни» на религиозные идеалы Достоевского и их изображение в романах. Но вопрос этой пропорции обоюдоострый: см. рецензию Джена Паркера из New York Times Book Review, где минимум треть статьи о третьем томе Франка занимают заявления типа «мне кажется, что поведение Достоевского полностью отвечает диагностическим критериям патологического влечения к азартным играм, указанным в методичке Американской психиатрической ассоциации». Во всяком случае подобные рецензии помогают оценить беспристрастную широту и отсутствие конкретных любимых точек зрения у самого Джозефа Франка.
[19] Отметим, что четвертый том Франка предоставляет и прекрасную личную грязь. Например, отн. ненависти Достоевского к Европе мы узнаем, что его знаменитую размолвку 1867 года с Тургеневым якобы из-за того, что Тургенев обидел страстный национализм Достоевского своими нападками в прессе на Россию и переездом в Германию, подпитывал тот факт, что ранее ФМД одолжил у Тургенева пятьдесят талеров и обещал тут же вернуть, но так и не вернул. Франк слишком сдержан, чтобы сказать очевидную вещь: с долгом жить куда легче, если можешь найти повод для обиды.
[20] Еще бонус: тома Франка переполнены чудесными и/или смешными именами, которые так и хочется покатать на языке: Сниткина, ДуболёбовÄ, Страхов, Голубов, фон Фохт, Катков, Некрасов, Писарев. Сразу видно, почему писатели вроде Гоголя и ФМД сделали из говорящих имен целое искусство.
Ä Sic: Dubolyobov.
[21] Случайный пример из ее дневников: «Бедный Федя, как он постоянно страдает после припадка, — такой мрачный, сердитый, на все сердится, раздражается всякими пустяками, так что мне приходится очень много переносить в эти дни его болезни; но это ничего, потому что зато другие дни очень хороши, в другие он очень добр и хорош со мною. К тому же я вижу, что он и кричит, и бранится вовсе не от злости, а от болезни». Франк цитирует целыми пассажами, но как будто сам не замечает, что брак Достоевского был довольно ненормальным, по крайней мере по стандартам 1990-х, — см. например: «Терпимость Анны, каких бы чудес воли она ни стоила, обильно возмещалась (по крайней мере в ее глазах) огромной благодарностью Достоевского и его растущей привязанностью».
[22] Взять, например, разрушительную страсть Достоевского к великолепной стерве Апполинарии Сусловой или мысленные маневры, на которые он шел для оправдания игр в казино... или факт, подробно задокументированный Франком, что ФМД действительно был активным участником кружка петрашевцев и, собственно говоря, наверное, заслуживал ареста по законам того времени — тогда как многие биографы настаивали, что это просто друзья затащили Достоевского не на ту радикальную встречу не в то время.
[23] В случае, если не очевидно: «идеология» здесь используется в ее строгом, ненагруженном смысле, означая любую организованную укорененную систему убеждений и ценностей. Конечно, по такому определению Толстой, Гюго, Золя и большинство других титанов XIX века тоже были идеологическими писателями. Но одаренность Достоевского в создании персонажей и в изображении глубоких конфликтов внутри (не только между) людей в первую очередь заключается в том, что он мог драматизировать чрезвычайно тяжелые, серьезные темы и при этом ни разу не скатиться в поучения или редукционизм, т. е. не замалчивать сложность моральных/духовных конфликтов и не выставлять «доброту» или «искупление» проще, чем они есть. Достаточно только сравнить финальное преображение протагонистов в «Смерти Ивана Ильича» Толстого и в «Преступлении и наказании» ФМД, чтобы оценить способность Достоевского быть моральным без морализма.
[24] И вот еще одна тема, прекрасно разработанная Франком, особенно в главе третьего тома о «Записках из Мертвого дома». Отчасти ФМД забросил модный социализм, которым увлекался в двадцать лет, из-за лет заключения, проведенных с абсолютными отбросами русского общества. В Сибири он пришел к пониманию, что русские крестьяне и городская беднота вообще-то презирали благоустроенных интеллектуалов высшего класса, которые хотели их «освободить», и что это презрение было на самом деле вполне оправдано. (Если интересно, как эта политическая ирония Достоевского переводится в современную культуру США, попробуйте одновременно читать «Дом мертвых» и «Mau-Mauing the Flak Catchers» Тома ВулфаÄ).
Ä Эссе Вулфа, посвященное реакции национальных меньшинств на коррумпированные программы борьбы с бедностью Управления экономических возможностей США.
[25] Политическая ситуация – одна из причин, почему в знаменитых «Проблемах поэтики Достоевского» Бахтина, опубликованных при Сталине, пришлось обойти стороной идеологическое участие ФМД в его персонажах. Многие похвалы Бахтина «полифоническим» персонажам и «диалогическому воображению» Достоевского, которые якобы помогали воздерживаться от привнесения в романы собственных ценностей, — это естественный результат попытки советского критика писать об авторе, чьи «реакционные» взгляды государству хотелось забыть. Франк, несколько раз подчищающий за Бахтиным, так и не проясняет ограничений, в которых работал Бахтин.
[26] Неудивительно, что действительные убеждения ФМД специфичны и сложны, и Джозеф Франк тщательно, ясно и детально объясняет их эволюцию через тематику романов (например, токсическое влияние эгоистического атеизма на русский характер в «Записках» и «ПиН», деформация русской страсти в мирской Европе в «Игроке», идея Христа-человека, буквально подверженного физическим силам природы, в образах Мышкина из «Идиота» и Зосимы из «Братьев Карамазовых» — центральная во всем творчестве Достоевского после того, как он увидел «Мертвого Христа» Гольбейна-младшего в музее Базеля в 1867 году).
Но что Франку удалось здесь действительно феноменально, так это перелопатить массу архивных материалов, созданных как самим ФМД, так и о нем, и сделать их понятными, а не просто надергать избранные отрывки, чтобы подкрепить определенный критический тезис. В какой-то момент где-то ближе к концу третьего тома Франк даже умудряется найти и прокомментировать какие-то забытые авторские заметки по поводу «Социализма и христианства» — эссе, которое Достоевский так и не закончил, — помогающие прояснить, почему он считается многими критиками предвестником экзистенциализма: «Воплощение Христа... подарило человечеству новый идеал, который с тех пор сохраняет свою силу... "NВ. Ни один атеист, оспоривавший божественное происхождение Христа, не отрицал того, что ОН — идеал человечества. Последнее слово — Ренан. Это очень замечательно"». И закон этого нового идеала по Достоевскому заключается в «возвращении в непосредственность, в массу, но свободное и даже не по воле, не по разуму, не по сознанию, а по непосредственному ужасно сильному, непобедимому ощущению, что это ужасно хорошо».
[27] Среди прочих врагами зрелого Достоевского после его «обращения» стали нигилисты — радикальные последователи яппи-социалистов 1840-х, название которых (т. е. «нигилисты») происходит все из той же всеотрицающей речи в «Отцах и детях» Тургенева, приведенной в начале. Но настоящая битва была шире и куда глубже. Неслучайно, большой эпиграф для четвертого тома Джозеф Франк взял из классической «Современности на нескончаемом суде» («Modernity on Endless Trial») Колаковского, ведь уход Достоевского от утилитарного социализма к специфическому моральному консерватизму можно рассматривать в том же самом свете, что и пробуждение Канта от «догматического сна» к радикальной пиетистской деонтологии почти столетием ранее: «Отвернувшись от популярного утилитаризма Просвещения, [Кант] также точно знал, что на кону был не какой-то частный моральный кодекс, но скорее вопрос существования или несуществования различия между добром и злом и, следовательно, вопрос судьбы человечества».
[28] (возможно, из-за очарования нашим собственным новым нигилизмом)
[29] (что бы конкретно это ни значило)
[30] (т. е., учитывая, где публикуется эта рецензия, — по сути, мы)
[31] Конечно, мы без колебаний пользуемся искусством, чтобы пародировать, высмеивать, разоблачать или критиковать идеологии — но это совсем другое.