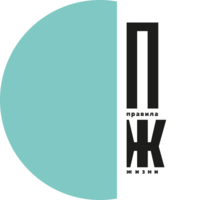Эмилия Кабакова: «У художников есть хорошие жены, а есть невозможные. Я — невозможная»

Ретроспектива — жанр довольно понятный.
Понятный для зрителя и опасный для художника.
Опасный?
Любому художнику страшно увидеть большую часть своих работ в одном месте. Ты живешь, создаешь, понимаешь, что некоторые вещи удались, некоторые не очень. И вдруг видишь всё. А что если это всё плохо? Или кто-то важный для тебя скажет, что плохо, или напишут. От этого погибнуть можно.
«В будущее возьмут не всех» — гастролирующая ретроспектива. Вы сначала делали ее для Tate Modern, потом она прошла в Эрмитаже, теперь — в Третьяковской галерее. Сколько времени вы над ней работали?
С Tate мы разговаривали о ретроспективе, наверное, лет двенадцать — чуть ли не с момента, как построили здание современной галереи. А когда мы уже начали к ней готовиться, кто-то предложил кооперацию с российскими музеями. И почти три года назад мы начали работу с куратором. Куратор пришла со своим отбором. И год между нами шла борьба.
Думаю, так вы не только с ней работали. Как вы вообще строите отношения с кураторами?
Мы работаем c кураторами только в том случае, если они на нашей стороне. А тут был сложный момент: куратор никогда не видела инсталляций Кабакова. У нее все было размечено по планам. А я вижу, что работы просто не помещаются. Пришлось долго объяснять, что инсталляция либо есть, либо нет. Нельзя ничего убрать, укоротить, подвинуть. В итоге мы стали друзьями. Она потом сказала, что многому научилась.
В Англии выставку приняли очень хорошо. Хотя контекст был для них все же чужой, как будто из другой жизни. Конечно, есть то, что объединяет всех: страх, боль, страдание, бедность. Иногда люди выходили из лабиринта и плакали. Но все-таки эти эмоции были от сочувствия к другим — что жизнь этой женщины была тяжелой или как непросто было этому ребенку.
Российским зрителям контекст как раз знаком. Как они реагируют?
В Санкт-Петербурге само ощущение этой экспозиции было другим. Она была на своем месте и в свое время. В 2004-м году, когда мы привозили первую выставку (речь идет о выставке Ильи и Эмилии Кабаковых «Случай в музее и другие инсталляции». — Правила жизни), было еще не время — слишком близко было советское прошлое. Люди слишком хорошо помнили коммунальное общество, в котором они когда-то жили. Они недоумевали: зачем нам смотреть то, что мы и так знаем? Сейчас другая ситуация: это бабушка, это мама так жила, я так не живу. Но! Я тоже боюсь, я тоже иногда хочу улететь в космос, мне тоже порой не нравится моя жизнь. И да, я хочу перестать бояться, я хочу стать свободным. Вот это общее. А бытовые ситуации и элементы той жизни уже почти забыты, для многих это уже далекое прошлое.
Но иногда «цепляет» не общее, а именно эти элементы. В инсталляции «Альбом матери» вы использовали обои. Советские, ужасные такие. Я эти обои знаю. Только они у нас были поклеены завитушками по вертикали, а у вас по горизонтали. И меня зацепили именно они.
Это хорошо, это заложено. Все учесть — в этом и есть смысл тотальной инсталляции. Обычная двухмерная картина как окно — ты стоишь снаружи и наблюдаешь. В тотальной инсталляции ты участник. Ты входишь в нее и срабатывает твоя память...То есть мы работаем с элементами памяти — культурной, бытовой и даже генетической. Так или иначе вы будете реагировать. Хорошее произведение — это многослойное произведение.
Название выставки «В будущее возьмут не всех» у многих вызвало негативное впечатление. Говорили о том, что оно снобское: что значит не всех? Кто это решает?
Конечно, не всех. Илья в начале 1980-х написал эссе с таким названием. Тогда его восприняли нормально. Это вопрос, заданный художником, которого волнует, кого возьмут, кого не возьмут. Как сделать так, чтобы взяли? Кто это решает? Решает ли история, решает ли куратор, а может, критик или зритель?
Я понимаю, почему сегодня многие недовольны: потому что Кабаков. Какое Кабаков имеет право решать? Но мы не решаем. Мы ставим вопрос.

Вы передаете Третьяковской галерее мастерскую Кабакова на Сретенском бульваре. Место легендарное. Это было их предложение?
Нет, это мы предложили. С мастерской долгая история. В советские времена Союз художников давал мастерские только известным художникам, работавшим в русле партийных установок. Ни Илья, ни Эрик Булатов, ни Олег Васильев, ни Юло Соостер такими не были. Они книжки иллюстрировали, им не полагалось. Но в Москве можно было получить от Союза Художников справку и сделать мастерскую на каком-нибудь пустом чердаке. Ремонт и все прочее — за свои деньги, конечно. Илья построил мастерскую на гонорар от книги. То же самое сделал Соостер. Булатов с Васильевым скинулись и построили одну на двоих. В 1993-м мы окончательно решили остаться на западе и не знали, что делать с мастерской. У нас была мысль организовать там музей. Не музей Кабакова, а музей концептуального искусства. Потом это помещение у нас попросил Иосиф Бакштейн, там шли занятия его института (Института проблем современного искусства. — Правила жизни). В прошлом году стало ясно, что мастерская уже в аварийном состоянии и ее могут забрать. Тогда мы задумались, что делать, потому что, сказать честно, денег на капитальный ремонт не было. В итоге решили, что только Третьяковская галерея, большая государственная институция, сможет сохранить ее и сделать там, как мы и хотели, музей.
Вы будете принимать участие в этом процессе?
Да, конечно. Илья сделает сейчас все планы. Мы хотим, чтобы мастерская приобрела вид тех времен, когда там работал Илья. Мы подарили работы, которые были там сделаны — и они будут теперь в тех же стенах. Это такая попытка воссоздать эпоху 1970-х в том самом легендарном месте. Там будут проходить выставки концептуального искусства, лекции, вечера памяти.
К концептуализму до сих пор применяют термин «современное искусство». Вам не кажется, что это не очень правильно, да и сам термин уже, кажется, «износился»?
Да, устарел. Сегодня современными можно назвать другие вещи — видео, перфомансы и, конечно же, картины. Я иногда хожу по студиям молодых художников где-нибудь в Бруклине — они делают вещи, которые я порой просто не понимаю. Работают с компьютером и говорят, что он их партнер и что у них происходит диалог. А я не могу принять то, что компьютер может быть собеседником. Мы уже давно история искусства. Мы можем пытаться, как говорит Илья, бежать за паровозом. Но ты не можешь бежать всю жизнь: это прерогатива молодых. Когда тебе за восемьдесят, это уже смешно, задыхаться будем.
Вам удается не задыхаться.
Это мы иллюзию создаем, мы же все-таки персонажи.
То, что вы делаете, еще определяют как «искусство эпохи глобализма». Как вам кажется, будет ли какой-то возврат из этой эпохи к национальному искусству?
Ну, во-первых, сейчас очень сильная тенденция возврата к национальному. И это трагедия. Потому что национальное — не скажу, что всегда «местечковое», но очень провинциальное. «Выскочить» смогли художники, которые сумели соединить национальное и интернациональное, сумели перевести свой национальный язык в глобальный.
Возврат — это шаг назад. Это трагедия для людей, это трагедия для технологий, это трагедия для художников. Я говорю не только о российских — это могут быть и индусы, и чехи. Мгновенно вписались в интернациональный контекст, наверное, только китайцы. Многие из них невероятно коммерческие, у них есть цель и они идут к ней. Все остальные пытаются идти со стороны искусства. Это очень сложно, потому что ты должен посмотреть сначала на себя и понять, что же у меня не так? Если я не вписываюсь, то почему я не вписываюсь? Тут очень важно посмотреть на себя критическим взглядом.
У вас было так? Критический взгляд на себя?
Конечно. Что ты можешь предложить? И ничего бы не получилось, если бы не была создана тотальная инсталляция.

Как вообще пришла идея делать тотальные инсталляции? Это же просто другая вселенная.
Илье все время чего-то недоставало. Начиналось с рисунка, и рисунка было недостаточно. Пошли картины. Картин стало недостаточно, тогда пошли альбомы — уже как жанр. Он начал их создавать в 1968-м и делал до 1974-го. Потом надоело, бросил. Потом начались разговоры, как выехать, ехать или не ехать, и если уезжать, то какие работы брать?
Дело в том, что московский концептуализм построен на нарративе, рефлексии и разговорах. И все знают контекст: что такое коммунальная жизнь, ЖЭК, дворы. На западе этот контекст неизвестен. Как я буду дальше работать, если контекст, в котором созданы мои работы, совершенно неизвестен? Я должен создать контекст визуально, эмоционально, психологически, чтобы зритель в него погружался. Вот так появилась идея тотальной инсталляции.
Есть какие-то интерпретации ваших произведений, которые вас смущают?
Нет. Мы не просто готовы к любой интерпретации, мы сами их подготовили. Но это очень редкий талант: ты должен уметь смотреть глазами другого. Увы, художникам это редко свойственно. Мы как-то пришли к одному автору в Нью-Йорке. Посидели, поужинали, и начался показ работ. И тут Илья говорит: «А скажи, ты понимаешь, что думает зритель, когда он стоит перед твоей картиной?» На что художник сказал, что все мысли между ним и картиной, между ним и богом, между ним вдохновением. Что думает зритель, его не интересует.
У вас особые отношения с музеями. Почему вы предпочитаете работать с ними, а не с галереями, которые как раз продают произведения?
Ну, это к вопросу, кого в будущее возьмут, а кого нет. И если ты попадаешь в коллекцию МОМА, Tate, Третьяковской галереи, Эрмитажа, то да, тебя взяли в будущее.
Мы не так много работаем с галереями, и я не думаю, что меня очень любят галерейщики. Потому что я спокойна: хотите — продавайте, не хотите — не продавайте, мы выживем. Мы выбираем, в каких выставках участвовать, мы выбираем, что продавать, когда и как.
Мы с самого начала решили, что Илья никогда не берет заказы. То есть мы можем сделать по заказу паблик-проект, но не картину в дом.
Очень давно у меня был интересный разговор с одним коллекционером. Он сказал мне: «А вот я хочу картину. Фиолетовую. У меня комната в этих тонах, и мне нужна картина именно такого цвета». Я ему ответила, что Кабаков не подойдет, потому что он все делает в цвете говна. Больше мы этого коллекционера не встречали.
Или, например, компания давала деньги на выставку. После чего приходит ее глава и говорит: «Все жены художников заключают с нами такое соглашение: она покупает платье, а оплату я беру картинами». Я отказалась, конечно. Я не буду обменивать картины своего мужа на платья. У художников есть хорошие жены, а есть невозможные. Я — невозможная.
Я знаю, что вы сейчас выкупаете те произведения, которые продавали на первом этапе жизни за границей. Зачем вы это делаете?
Если картина принадлежит тебе, то ею проще оперировать. К примеру, дарить музеям, давать на выставки. Та же история с мастерской Кабакова: мы хотели отдать картины, мы отдали. Сейчас в США разводилась одна знаменитая и богатая пара. Я попросила их подарить музею одну нашу инсталляцию, которая была куплена, когда они были в браке. Мужчина согласился, но его бывшая жена уперлась. Мы ее убеждаем, что ей эти деньги, если она будет продавать инсталляцию, ну так, на булавки, но она ни в какую. И мы очень переживаем, потому что неизвестно, куда попадет эта работа, что с ней будет.
Мы по-разному сотрудничаем с коллекционерами. В Германии я предложила за одну картину деньги и вдобавок дала одну маленькую работу — на таких условиях коллекционер мне ее продал.
Первые картины, которые я купила, были неподписанными. Я знала, что у Ильи когда-то была герлфренд (это когда я еще была совсем молоденькая). Как-то она позвонила мне и стала жаловаться, что у нее нет денег, не хватает на шубу. Илья говорит: «Повесь трубку. Она сумасшедшая». А она, действительно, не в себе. Но я решила послушать и предложила ей выкупить картины Ильи. По пять тысяч долларов за работу. Почему такая цена? А они никому не были нужны. Она уже пыталась продать их через Sotheby's, через Christie's, но они очень ранние, не подписанные и не в стиле Ильи. Но для нас это исторические картины.
Еще одна картина исчезла из нашего поля зрения. Сначала мы знали, кто ее увез и где она находится. Но человек пропал, его дети тоже. Следов нет, ну, мы и плюнули. Вдруг неожиданно мне звонят организаторы одного интернет-аукциона и говорят, что у них есть картина Кабакова, но, возможно, это подделка. Я попросила фотографии и поняла, что скорее всего это та самая работа, которую мы ищем. Выясняется, что какая-то 90-летняя женщина когда-то купила эту работу на школьном благотворительном аукционе за пятнадцать долларов. Естественно, я заплатила аукциону гораздо больше. И знаете, я не удержалась. Уходя, я повернулась к устроителям торгов и сказала, что это первая концептуальная картина Кабакова. Они всполошились, стали спрашивать, почему я сразу это не сказала, но я же не дурочка. Кстати, сейчас у нас эту работу, «Футболист», просят все музеи на все выставки.
Насколько вы погружены в художественную среду США?
Мы очень много общались всегда. У нас был очень хлебосольный дом. Я же готовлю. Приходили поесть, посидеть, поговорить. Мы жили в Гринвиче, и все были рядом. А потом переехали на Лонг-Айленд, и первое время все приезжали, а потом, конечно, перестали — у каждого своя жизнь.
Но мы не выпускаем друг друга из виду, приезжаем вместе на Биеннале, выставки, созваниваемся — особенно, если надо посоветоваться, стоит ли участвовать в той или иной выставке. Сейчас, конечно, уже очень многих нет. Но все равно остается чувство плеча.

На старых фотографиях в мастерской на Сретенке видно, что здесь тоже было братство. Тяжело было его лишиться?
Да, здесь было содружество, очень дорогое для Ильи, но, переехав, мы обрели другое общество. А еще мы сейчас настолько заняты работой, что, честно, ни на что времени не остается. Мы встаем где-то в шесть утра... Вот я сейчас позвонила (в США 6.30 утра), Илья уже в мастерской, он поел и пошел работать.
Я встаю вообще в пять, потому что если ты работаешь с Европой или Японией, у тебя по-другому не получается поговорить с людьми.
Мы делали по сорок выставок за год. На все выставки ни один художник в мире (это я вам гарантирую) персонально не едет. У нас было, к примеру, 25 персональных, остальные групповые — групповые многие пропускают. Но из-за того, что ты представляешь инсталляцию, ты должен ехать, чтобы на месте ее собрать. Мы по девять месяцев году проводили вне дома. Я думаю, что мы отдыхали за все годы максимум четыре раза.
Поверьте, арт-тусовка везде устроена примерно одинаково. Были люди, которые дружили, сотрудничали. Они находились в таком аду, что сами себе рай создавали. Но когда исчез ад, исчез и рай — и оказалось, что все они не очень-то и друзья. Осталось очень мало людей, которые близки нам. Они есть, безусловно, но их очень мало.
Вы уехали на запад раньше мужа, и у вас, думаю, разные истории «приживания».
Эмигрантская история у каждого своя. У нас разница в том, что после эмиграции я лишилась гражданства. Ты уезжаешь без надежды вернуться, увидеть своих друзей, родителей. Я же не знала, что мои родители смогут выехать. Илья меня провожал, и я думала, что никогда его не увижу. Я его звала. Он отказался, потому что оставались мама, дочка, друзья.
Америка была как другая планета. Я очень хорошо приспосабливаюсь и, где бы я ни была, находятся люди, которые мне помогают. Были, конечно, моменты. У меня характер плохой — я слишком независима. Из-за этого часто оказывалась в тяжелых ситуациях. Ну, ничего: я тут, я жива, и все нормально.
Вы сейчас чаще бываете в России. А за событиями в стране следите?
Я вообще не следила за новостями, пока не стала жить с Ильей — даже язык начала забывать. До меня долетали отголоски каких-то политических событий, но так, чтобы пристально интересоваться, — нет, конечно. А Илья, поскольку он намного позже выехал, следил. Моя самая большая ошибка была в том, что в какой-то момент я купила ему пакет русского телевидения. Он начал его смотреть и обсуждать со мной. А я ему говорила, что мне неинтересны эти темы, потому что они заставляют его нервничать. Сейчас я уже спокойна. Что происходит, произойдет все равно. Мы изменить ничего не можем.
С Россией мы сейчас связаны по работе. И да, у нас здесь друзья, и мы, конечно, переживаем и за них.
На ваш взгляд, в чем главная проблема российского арт-рынка?
Тут очень странная ситуация. Во всем мире за каждым художником стоит его страна. За русскими художниками не стоит никто: они как собаки бродят по миру бездомные, ободранные и отвечают только сами за себя. Нашел ты, кто тебе будет помогать, — прекрасно. Не нашел — твоя проблема.
Русские коллекционеры не тратят деньги на русских художников. Когда я прихожу к ним в гости и вижу Дженни Хольцер или Дэмиена Херста, мне обидно. Я думаю: «Ну хорошо, ну Хольцер — ладно. Но Херст! Придет время, когда вы не будете знать, куда это пристроить». Для того, чтобы был рынок, коллекционеры должны покупать своих. Если свои не покупают, чужие покупать не будут. Когда пытаешься разговаривать об этом, тебе отвечают, что в России нет хороших художников. Это неправда. Много хороших. Что ж вы так их бросаете на произвол судьбы?
Молодые российские художники сейчас, возможно, испытывают то, что испытывали Кабаков и его соратники. В стране душно. И многие задумываются о переезде. Что надо понимать прежде всего?
Переехать очень сложно. Лишения, страдания, даже если кто-то готов к ним, не дают гарантий, что потом все окупится. Это очень тяжелый шаг. У меня было много друзей-художников с очень тяжелой жизнью. Моя дочь хотела стать художницей. Я не дала, потому что видела — люди просто голодают. Мне казалось, что она будет сильно зависеть от мужа, только чтобы прокормить себя и своих детей. Я сказала: «Сначала профессия, а потом будешь художницей».
Вы много лет успешно занимаетесь арт-менеджементом. И, как известно, нигде этому не учились. Что вам помогает? Талант? Чутье?
Во-первых, я не считаю это менеджментом. Это наша жизнь, и мы так живем. Я не люблю продавать. Если бы я всерьез занималась каким-то бизнесом, то я бы, наверное, сегодня была бы мультимиллиардером.
Я вообще не сомневаюсь.
Я тоже не сомневаюсь. Было время, когда я думала: если у меня будут деньги, то я устрою жизнь как захочу. Но когда деньги ко мне пришли, то оказалось, что они очень ограничивают. Сейчас я занимаюсь тем, чем хочу, я живу с человеком, с которым хотела быть всегда. Мне было пятнадцать, когда я увидела Илью впервые, и уже тогда я почувствовала, что это единственный человек, с которым я смогу жить, за которого я бы вышла замуж. Нам тридцать лет интересно друг с другом, и мы любим друг друга, работаем вместе и занимаемся тем, о чем мы мечтали.
Меня часто спрашивают, почему я не хочу признать, что я прекрасный менеджер, а не художник. Илья бы не жил с менеджером. То, что я делаю, это не про организацию выставок, не про заработок. У каждого нашего проекта нет границ. Это фантазия. Но эту фантазию можно реализовать. Иногда ты сам не веришь, что проект будет реализован, но встаешь утром и начинаешь делать. И получается. Так что все возможно.