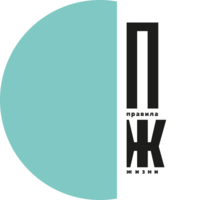Чтение выходного дня: новый роман лауреата Букера Джулиана Барнса о жизни Самуэля Поцци — гениального гинеколога и невыносимого бабника

«Цветы в Фашоде!» Королева Виктория считала, что французы «неисправимы как нация, хотя и обаятельны каждый в отдельности». Неисправимость, на английский взгляд, отчасти коренилась в политической нестабильности Франции. Примерно раз в столетие порты Ла-Манша захлестывала очередная волна гонимых: ими становились гугеноты, изгои революции, коммунары, анархисты. Четверо правителей один за другим (Людовик XVIII, Карл X, Луи-Филипп и Наполеон III) нашли убежище в Британии, равно как и Вольтер, Прево, Шатобриан, Гизо и Виктор Гюго. Оказавшись под подозрением (различного рода), Моне, Писсарро, Рембо, Верлен и Золя — все устремлялись в Англию. Политический трафик в обратном направлении был куда менее интенсивным: после Стюартов единственными заметными персонами, бежавшими во Францию, были Джон Уилкс и Том Пейн. Такой дисбаланс, естественно, подпитывал самодовольство британцев по поводу их исторических и политических свобод. В основном бритты перебирались во Францию для того, чтобы избежать скандала (и продолжить свой скандальный образ жизни): там находили прибежище высокопоставленные банкроты, двоеженцы, шулеры и гомоэротоманы. К нам сюда присылали свергнутых лидеров и опасных бунтарей; мы отправляли туда нашу чванливую шушеру. Другую причину переселения на континент обозначил художник Уолтер Сикерт в письме из Дьеппа, датированном 1900 годом. «Жизнь здесь чертовски здоровая, все дешево — хоть куда». («Хоть куда» использовано в данном случае для выражения оценки, а не локуса.)
В своем стихотворении «Франция» Киплинг писал, что эта страна «за новою Правдой первой шла и старой была верна». И грузу старых фантазий — тоже. Когда в середине XVIII столетия британцы впервые одержали геополитический верх над французами, герцог де Шуазёль, премьер-министр Франции, признал, что это «уму непостижимо». А затем (уже в 1767 году) добавил: «Кто-то мог бы ответить, что это факт; я бы вынужден был согласиться; но поскольку такое невозможно, я буду и впредь надеяться, что все непостижимое — преходяще». Такая логика — больше похожая на заклинание, ничем не подтвержденная, но с легкостью при знающая свои внутренние противоречия — никогда не родилась бы в уме британского государственного деятеля. Но без малого два века спустя она снова тут как тут — генерал де Голль заявляет: «Франция должна и впредь вести себя как великая держава — именно потому, что ныне она сдала свои позиции». Британские политики тоже не чужды заблуждений по поводу того, что их страна более могущественна, чем на самом деле, что она способна «смести все преграды», а то и стать «лидером англосферы»; однако этот привычный самообман никогда не облекался у них в столь прозрачную, почти эстетскую форму.
Со временем произведения литературы меняются; во всяком случае, меняется их прочтение. Коллекционеры первых изданий любят мысленно переноситься в ту эпоху, когда попавшая к ним в руки книга еще пахла типографской краской и переплетным клеем, когда на нее не появилось еще ни одной рецензии, когда еще не сложились idées reçues, которые затрудняют безыскусный читательский отклик на ее содержание.
В 1884 году, когда увидел свет роман Гюисманса «Наоборот», Малларме в письме к автору от 18 мая похвалил «эту отличную книгу (внутренний чертог вашего разума)», увидев в ней «незаурядный учебник... Какой сюрприз для заурядных беллетристов и сколь широко придется им распахнуть глаза!». Малларме называет дез Эссента «пронзительным и аффектированным персонажем», чьи «несчастья», к сожалению, «не вызовут заслуженного сочувствия». В его восхищении этой книгой нет ничего удивительного, поскольку в ней — так уж совпало — на трех страницах восторженно превозносится поэзия самого Малларме, и эти похвалы открыли поэту широкую дорогу в мир. Но тем из нас, более поздних читателей, которые рассматривают этот роман как библию французского декаданса, странную, темную фантазию, некий литературный эквивалент необузданного воображения Гюстава Моро или Одилона Редона, Малларме предлагает отрезвляющий взгляд первооткрывателя:
«Это — абсолютное видение рая чистых ощущений, которые открываются индивидууму прежде наслаждений, будь то варварских или современных. Но вот что при этом вызывает восхищение и придает силу (которую объявят плодом больного воображения и т. п.) вашей книге: в ней нет ни грана фантазии. На протяжении этой изысканной дегустации всех ингредиентов вы показали себя непревзойденно строгим документалистом.»
Одна из особенностей романа «Наоборот» состоит в том, что текст то и дело отклоняется от стройного повествования и принимает характер эссеистики. В нем есть рассуждения о современной литературе, живописи и музыке, есть пространные экскурсы в позднюю или декадентскую античную поэзию, которые высоко оценивались критикой, пока Гюисманс много лет спустя не признался, что они в основном содраны из трехтомной истории литературы Средних веков Адольфа Эберта. Есть там и обширный раздел об апологетах католицизма, где видное место занимает Леон Блуа, почти точный одногодок Гюисманса. Гюисманс (1848–1907) характеризует Блуа как «злого памфлетиста, обладателя отчаянного и изысканного, задиристого и жестокого стиля». Блуа (1846–1917) не остался в долгу, описав стиль Гюисманса в таких выражениях, которые дают нам понять, насколько труден роман для перевода: «[Его стиль] без устали тащит Матушку Образность то за волосы, то за ноги вниз по изъеденной древоточцем лестнице перепуганного синтаксиса».
Что же касается самого романа, тут мнение Блуа в корне отлично от суждений Малларме:
«В данном калейдоскопическом обзоре всего и вся, что только может заинтересовать современный ум, нет ничего такого, что не было бы раскритиковано, поругано, облито грязью и предано анафеме самим этим мизантропом, который отказывается признавать в недостойных детищах нашей эпохи венец судеб человечества и рассеянно взывает к какому-то Богу. Никто, кроме Паскаля, еще не выступал с такими пронзительными сетованиями.»
Всем известно (точнее, «всем известно»), что граф Робер де Монтескью держал дома черепашку, чей золоченый панцирь был инкрустирован драгоценными камнями. Нам с вами это известно от Гюисманса, который посвятил четыре страницы своего романа рассказу о покупке дез Эссентом этой пресмыкающейся твари — «поистине декоративной вещицы» — и ее преображении. Тщательно продуманный узор для инкрустации обсуждался с ювелиром: за образец взяли контуры японской гравюры с изображением буйно цветущей ветки. После золочения и инкрустирования эту самоходную дароносицу предполагалось выпустить на роскошный турецкий ковер, подобранный с учетом оттенков и переплетений пряжи. Все намеченное было триумфально исполнено; но через несколько страниц бедная черепаха, завалившись вверх тормашками, испустила дух, потому что — внимание: мораль — «не могла вынести ослепительной роскоши, которую на нее взвалили». Британский эквивалент этой литературно-готической смерти не потребовал столь вычурной игры воображения: в романе Яна Флеминга «Голдфингер» приспешники Аурика Голдфингера без затей покрыли тело Джилл Мастерсон смертоносной золотой краской.
Разукрашенная черепаха фигурировала, по всей вероятности, в пакете информационных материалов о Монтескью, собранных поэтом Малларме для прозаика Гюисманса и включавших даже сани на медвежьей шкуре, церковную утварь и шелковые носки под стеклом шкафа-витрины. Последние экспонаты описаны Гюисмансом в неизменном виде, но с черепахой дело обстоит сложнее. Роберт Болдик, переводчик книги на английский язык, а также биограф Гюисманса, уточняет, что в тот вечер Малларме, придя в пещеру Али-Бабы, увидел лишь останки несчастного существа — золоченый панцирь. То есть никаких драгоценных камней и никакой ползающей черепахи. А значит, остается вопрос: приобрел граф у антиквара эту живую эстетскую диковинку в декорированном виде или же купил только голый панцирь, который потом в порыве прихотливого дендизма просто отдал позолотить?
В свою очередь, Филипп Жюллиан, биограф Монтескью, указывает, что вся история с черепахой, живой или мертвой, инкрустированной или первозданной, — «плод воображения [поэтессы] Жюдит Готье». Но это в общем и целом не повод для разочарования. Писательское ремесло требует среди прочего вплетать легкий, пусть даже ложный слушок в сверкающую достоверность событий, и зачастую оказывается так: чем меньше у тебя фактов, тем легче превратить их в стоящий рассказ.