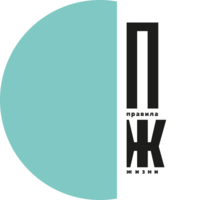Чтение выходного дня: отрывок из биографической саги Карла Уве Кнаусгора «Моя борьба» о том, как на нас влияет поэзия
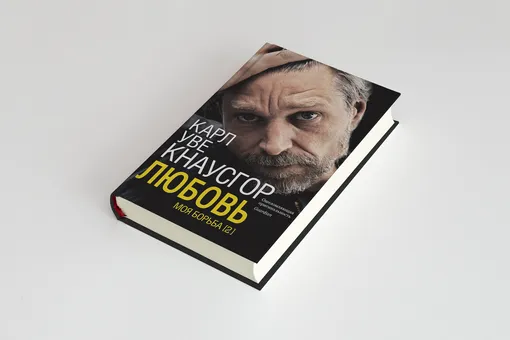
Многое в жизни поменялось с тех пор, но мои отношения со стихами в целом оставались прежними. Я мог их читать, но они никогда не открывались мне, потому что у меня нет на них «прав»: не про меня они писаны. Я пытался проникнуть в них, всегда чувствовал себя при этом обманщиком, и, действительно, меня каждый раз разоблачали: в самих стихах был еще и вопрос ко мне — а ты кто такой, чтобы сюда соваться? Так говорили мне стихи Осипа Мандельштама, стихи Эзры Паунда, и стихи Иоганнеса Бобровского говорили то же самое. Право читать ихнадо заслужить.
Как?
О, это проще простого. Берешь томик стихов, читаешь, если стихи тебе открываются, значит, ты заслужил, не открываются — не заслужил. Факт, что я не попадаю в чисто тех, кому стихи себя открывают, особенно мучил меня лет в двадцать, когда во мне крутилась еще масса идей, кем бы я мог стать, и его значение для моей жизни оказалось грандиозным, гораздо более масштабным, чем просто недоступность мне одного литературного жанра. Я воспринимал данный факт как приговор себе. Стихи смотрели в другую реальность, или смотрели на реальность другим образом, в них было больше правды, чем в доступном мне мире, и такой порядок, при котором этому видению нельзя научиться, — оно либо дано тебе, либо нет, — обрекал меня на жизнь низшего сорта, делал человеком низшего сорта. Осознавать этот факт было очень больно. А способов реагировать на него было всего три, строго говоря. Первый — согласиться, признаться себе, что так оно и есть. Я самый обычный человек, впереди обычная жизнь, надо искать смысл ее здесь и теперь, где я нахожусь, а не где-то там. И она к тому же так и выглядела, жизнь моя. Я любил смотреть футбол и сам в него играл, когда выпадал случай, увлекался поп-музыкой и пару раз в неделю играл на барабанах в одной группе, в университете слушал курс за курсом по порядку, немного тусил, любил по вечерам валяться на диване и смотреть телевизор на пару с моей тогдашней девушкой. Второй возможной реакцией было отрицание, то есть сказать себе, что нужный дар у меня есть, просто пока не проклюнулся, и прожить жизнь в литературе в роли, например, критика или преподавателя университета, возможно, писателя, поскольку в том мире можно будет удержаться на плаву, даже если литература никогда мне себя не откроет. Можно ведь написать целую диссертацию о Гёльдерлине, например, описывать его стихи, рассматривая их проблематику и ее отражение в синтаксисе, выборе слов, библейских аллюзиях, анализировать соотношение греческого и христианского дискурсов, сосредоточиться на роли пейзажа в стихотворениях, или роли погоды, или восприятии стихов в той политикоисторической реальности, в которой они появлялись на свет, а если делать упор на биографический аспект, то говорить о немецко-протестантском бэкграунде или о колоссальном влиянии французской революции. А можно написать о Гёльдерлине и других немецких идеалистах, Гёте, Шиллере, Гегеле, Новалисе или, наоборот, о его отношении к Пиндару в поздних стихах. Или о его неканоническом переводе Софокла, или сличить его стихи с его же рассуждениями о стихосложении в поздних письмах. Или взять стихи Гёльдерлина и трактовку их Хайдеггером, или сделать следующий шаг, к полемике Хайдеггера и Адорно по поводу Гёльдерлина. Или написать подробную историю восприятия стихов Гёльдерлина или историю переводов его сочинений. Все это возможно сделать, даже если его стихи не открылись тебе. Также можно поработать и с другими поэтами, что, естественно, делается. Более того, если человек готов поднатужиться, то он может сам писать стихи, даже не относясь к тем, кому стихи открывают себя. В конце концов, разницу между стихотворением и текстом, похожим на стихотворение, уловит только поэт. Из этих двух тактик первая — принятие — лучше, но труднее. Вторая — отрицание — легче, но неприятнее, поскольку ты постоянно находишься в двух шагах от осознания, что занимаешься, по сути, делом, не имеющим никакой ценности. А если человек живет литературой, то для него ценность как раз очень важна. Так что третья стратегия — отказаться ставить вопрос таким образом — была лучше всех. Нет класса выше и ниже. Нет никакого восприятия только для избранных. Ничто не лучше и не подлиннее, чем другое. Да, мне не открыты стихи, но это еще не значит, что я ниже классом, хуже или что мои сочинения имеют меньшую ценность. Оба объекта — не открывшие мне себя стихи и мои сочинения — по большому счету являются одним и тем же: текстами. Если мои тексты слабее, как оно, конечно, и было, то это не фатально и не означает, что мне чего-то там не хватает; упорным трудом все выправится по мере накопления опыта. До известного предела, само собой, поскольку понятия таланта и литературного качества никто не отменял, не могут же все подряд писать хорошо. Но главное тут было вот что: нет никакой пропасти между теми, кому дано и кому не дано, кто видит и кто не видит. Вместо этого — разница в конкретных значениях, но в пределах единой шкалы. Благодарный подход, его несложно обосновать, тем более что с середины шестидесятых и поныне он господствует в среде критиков, художников и в университетском сообществе. Мои представления о жизни, бывшие настолько естественной частью меня, что я не опознавал их как систему идей и поэтому никогда не озвучивал, только переживал, хотя они все же направляли мою жизнь, были романтизмом в его чистом, антикварном виде. Единиц, всерьез одержимых романтизмом, интересуют в нем наиболее применимые к сегодняшней жизни вещи, вроде фрагментарности или иронии. Но для меня главным был не романтизм — если я с какой эпохой и чувствовал родство, то с барокко, с его просторностью, головокружительными высотами и глубинами, его представлениями об игре и жизни, теле и зеркале, тьме и свете, искусстве и науке, покорившими меня, — главным было мое чувство, что я остаюсь вне сущностного, самого важного, того, чем бытие в конечном счете и является. Было это чувство романтическим или нет, не играло роли. Но чтобы заглушить боль, которую оно вызывало, я защищал себя всеми тремя вышеперечисленными способами и долгое время верил в них, особенно в последний. Пусть мое представление об искусстве как о месте, где полыхает огонь правды и красоты, как о последнем прибежище, где жизнь может показать свое истинное лицо, и было безумным. Но иногда нечто вырывалось наружу. Не как мысль, потому что ее можно победить аргументами, — а как чувство. Всем своим естеством я понимал, что здесь ложь, что я себя обманываю. Так было и когда я стоял в подворотне перед домом Шведского союза писателей тем мартовским днем две тысячи второго года и листал последние большие гимны Гёльдерлина в переводе Ариса Фиоретоса.
Ах, я несчастный.
По улице мимо тек постоянный поток все новых людей. Свет лампочек, натянутых над улицей, отражался от пуховиков и пакетов, асфальта и металла. Тихий гул голосов и шагов перекатывался в пространстве между домами. На подоконнике второго этажа неподвижно сидели два голубя. У края раздвижного навеса, приделанного к стене, под которым укрылся я, вода скатывалась в тяжелые капли, с постоянной периодичностью они срывались и падали на землю. Я убрал книжку в рюкзак и вытащил из кармана мобильный, чтобы посмотреть время. Экран был темный, я включил его и пошел вверх по улице. Пришло сообщение. От Тоньи.
«Ты доехал? Думаю о тебе».
Два предложения, а она как будто материализовалась рядом. Заполнила меня собой, всем, чем она была для меня. Я увидел не только ее портрет и повадки, как мы обычно вспоминаем знакомого нам человека, но все множество ее лиц, что-то неуловимое, хотя совершенно отчетливое, чем лучится лицо человека для любящих его глаз. Но отвечать не стал. Я уехал, чтобы уйти, и, хотя боль волной перекатывалась во мне, удалил сообщение и пролистнул экран к часам.