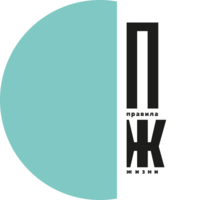Том Уилкинсон. «Люди и кирпичи»

The moral right of the author has been asserted
© Фотография на обложке.
Die Photographische Sammlung / SK Stiftung Kultur — August Sander Archiv, Cologne; RAO, Moskwa, 2015
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2015
Конфликт между забвением и памятью в архитектуре, между истинными и ложными воспоминаниями продолжается и сегодня, как мы наблюдаем на примерах восстановленного храма Христа Спасителя и планируемой реконструкции Берлинского городского дворца XVIII века, снесенного после войны властями ГДР, чтобы освободить место под Дворец Республики, который, в свою очередь, был снесен после объединения Германии. Таким же полем идеологической битвы, на котором недавно пролилась кровь, стала и Большая мечеть в Дженне.
В 2006 году Культурный фонд Ага-хана (руководителя шиитской секты низаритов) выслал своих специалистов проинспектировать крышу глинобитного здания. Песчаная постройка находится под постоянной угрозой размывания, поэтому каждый год горожане обмазывают ее заново на празднике под названием fête de la crépissage (праздник обмазывания), когда торчащие из фасада деревянные колья превращаются в ступени. Обмазывание защищает здание, однако за долгие годы многотонные слои глины сильно утяжелили крышу и стены, «раздув» изначально строгие линии мечети и угрожая ее сохранности. Увидев на крыше посланцев Ага-хана, горожане подняли волну протестов, и реставраторов вынудили убраться. После этого протестующие уничтожили проветриватели, установленные американским посольством в ходе попытки наладить отношения во время Иракской войны, и один человек погиб во время последующих столкновений с полицией.
Прежде чем утверждать, что эти события стали реакцией на посягательство иностранцев на культурное наследие, нужно добавить, что в ходе беспорядков были разгромлены также канцелярии префекта, мэра и культурной миссии правительства и уничтожены несколько машин, принадлежащих имаму мечети. Массированная атака на представителей власти говорит о недовольстве политикой сохранения наследия страны в целом — и это неудивительно, учитывая, что Дженне (и Мали в целом) уже не первое десятилетие выступает дойной коровой, от которой ничего не перепадает самим горожанам. С 1988 года мечеть и многие исторические здания города имеют статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и Джингереберская мечеть в Тимбукту, обеспечивая денежный поток от гуманитарных организаций и туристов. Но пока власти наживаются на своих дойных коровах, простой народ вынужден жить в морально и физически устаревших зданиях, поскольку нахождение под охраной ЮНЕСКО запрещает их модернизацию. Как сказал один из местных: «Кому охота жить в доме с земляным полом?»
Махамаме Бамойе Траоре, возглавляющий влиятельную городскую гильдию каменщиков, заявляет: «Если хотите помочь, помогайте так, как удобно принимающему помощь. Заставлять его жить по своей указке неправильно». Об одной крошечной каморке без окон с глиняным полом Траоре сказал: «Это не комната. Это самая настоящая могила». Его замечание, вторящее модернистской критике середины XX века, означает, что мы так и не усвоили предостережение Батая насчет архитектуры, которая «погребает общественную жизнь под каменной плитой». Как уже выяснили малийцы, погребать способна и глина, которую воспевают исключительно чужестранцы со своей nostalgie de la boue — «тоской по грязи», идеализацией якобы неиспорченного цивилизацией образа жизни.
Не испугавшись беспорядков, омрачивших предыдущий визит, в 2009 году посланцы Фонда Ага-хана вернулись продолжить реставрацию мечети. Однако что именно они собирались реставрировать и в соответствии с чьей памятью? По сути, Большая мечеть в Дженне может считаться плодом чужеземного воздействия на малийское самосознание: изначальная постройка XIII века обветшала при попустительстве правящего в XIX веке теократа-пуританина Секу Амаду. Амаду выстроил на ее месте новую мечеть, попроще и без украшений. Однако французы, завоевавшие Мали в конце XIX века, стали насаждать более удобный для них вид ислама, поэтому уничтожили развалины первой мечети, чтобы в 1907 году построить современное ее здание. Так что ее «малийская исконность» вызывает жаркие споры: сразу после постройки один из французских обозревателей, видевший развалины изначальной мечети, называл новое здание «помесью ежа и церковного органа», утверждая, что своими коническими башнями она напоминает «вычурный храм в честь бога суппозиториев». Критики и сейчас доказывают, что ее симметричная монументальность навязана европейцами (и действительно, три конические башни по фасаду, увенчанные страусиными яйцами, придают ей ощутимое сходство с готическим собором). Можно ли считать это примером синдрома ложной памяти — тоже типично французского, — который критиковал Рескин в 1849 году, выступая против волюнтаристских реставрационных методов Виолле-ле-Дюка?
Как бы то ни было, Фонд Ага-хана не стал разбирать, чье это наследие — французских колонистов или малийское, объявил исконной постройкой здание 1907 года и продолжил соскребать глиняную «шубу», которой мечеть обросла за последнюю сотню с лишним лет. Делалось это для спасения основы здания, уже проседавшей под тяжестью: после сильных ливней в том же году рухнула одна из башен. А еще перед реставраторами стояла задача открыть истинный облик здания, предположительно прячущийся под всеми этими наслоениями. Но что если эта «шуба» и есть истинный облик? Если изначальную мечеть построили французы, возможно, самое аутентичное в ней — это как раз последующее постепенное преобразование под руками горожан, оставляющих свои отпечатки на глине?
У имама (набитого саудовскими нефтедолларами) имеются насчет нынешней мечети собственные соображения: придать ей восточный колорит, облицевав зелеными изразцами, и водрузить наверх золотые минареты. Однако ЮНЕСКО, действуя заодно с правительственной культурной миссией, пока сумело пресечь эти далеко идущие планы. Считать ли эти противоречащие друг другу вмешательства Запада (ЮНЕСКО и американского посольства) и Востока (Фонда Ага-хана и саудовских спонсоров имама) свежими примерами того, как иностранцы навязывают Мали свои взгляды, не признавая право авторства за африканскими творцами? Или идея авторского права в искусстве сама по себе навязана извне? Ведь, по сути, Большая мечеть была построена местными народными умельцами, передававшими мастерство из поколения в поколение. И в таком случае она, несомненно, аутентична, поскольку устная традиция куда более созвучна африканскому самосознанию, чем миф о гении-одиночке или навязанной чужеземцами письменной истории. Аналогом этой устной традиции вполне можно считать «праздник обмазывания», когда жители Дженне передают навыки строительства из поколения в поколение, вовлекая в ремонт мечети всю общину.
Однако действительно ли именно устную традицию можно считать в большей степени «исконно африканской» или это очередной романтический миф, изображающий Африку безграмотной вопреки всем свидетельствам обратного? Как-никак Тимбукту и Дженне столетиями слыли центрами науки и международного книгообмена. Регион и сегодня может похвастаться богатой коллекцией средневековых манускриптов, большая часть которых находится в частных библиотеках, несмотря на все усилия иностранцев собрать их в таких организациях, как, например, Институт Ахмеда-бабы — фонд, основанный в Тимбукту в 2010 году и финансируемый южноафриканцами. Нежелание владельцев расставаться со своими книгами понятно, учитывая, что французы тоже пытались, находясь у власти, прибрать коллекции к рукам, а драгоценные переплетенные в кожу тома обеспечивают много пережившей стране связь с прошлым. Книги эти также не смогли уберечь от посягательств во время недавних беспорядков: как и суфийские усыпальницы, они олицетворяют исламскую историю, которую реформаторы мечтают стереть. Незадолго до того, как повстанцы были выдворены французами из Тимбукту, Институт Ахмеда-бабы был ограблен и несколько томов сожжено. К счастью, большинство было предусмотрительно спрятано сотрудниками института — у малийцев за плечами немалый опыт столкновений с вандалами. Если эти рукописи опровергают миф об устной африканской традиции, то мечети Мали точно так же нельзя считать порождением некой безымянной, кустарной, внеисторической традиции, чудесным образом рожденной в африканских «массах». Нам известно имя главного каменщика Дженне, перестраивавшего мечеть в 1907 году, — Исмаил Траоре — и местного архитектора, выступавшего консультантом у реставраторов Ага-хана, — это Абдель-Кадер Фофана, учившийся в СССР и владеющий русским и китайским. Устный характер традиций малийского зодчества не мешает им меняться с годами или вбирать иностранные течения — так происходит со времен хаджа короля Мусы.
Иссушение и опасность размыва дождями постоянно грозят превратить малийские мечети в пески пустыни. Происходящие с ними изменения и необходимость раз в год создавать заботливыми руками верующих очередной слой защитной оболочки делают их прямой противоположностью тем памятникам, которые критиковали модернисты вроде Батая и Мамфорда. Последний под монументальностью понимал постоянство и нерушимость камня, однако глинобитная, возможно, не исконная, но определенно несущая в себе смешанные черты Большая мечеть Дженне постоянна настолько, насколько постоянен заботящийся о ней народ. И если Батай с Мамфордом писали о гнете памятников, под которым оказывается общество, архитектурное наследие Тимбукту и Дженне, превращенное стараниями ЮНЕСКО в нерушимый камень, точно так же грозит задавить свои города. Однако оплывающая глина и беспорядки вокруг Большой мечети напоминают, что памятники вовсе не так незыблемы, как нам представляется. Соответственно и посягательства исламистов на суфийские могилы в Мали свидетельствуют о том, что так называемые общечеловеческие ценности мирового наследия, пропагандируемые ЮНЕСКО, разделяют не все: в частности, для религиозных фанатиков с их табу на образы эти памятники являются ересью, а не сокровищем.
В недавних малийских беспорядках активно участвовали туареги. Несмотря на то что традиционно эти кочевые племена принадлежат к суфиям, многие туареги — особенно те, кто десятилетиями выступает за образование отдельного государства Азавад на севере страны, — в последнее время начали объединяться с исламистами-реформаторами, громя вместе с ними суфийские усыпальницы и уничтожая книги в Тимбукту. Не одно столетие европейцы и арабы романтизировали кочевой образ жизни, а критики монументальных городов нередко говорили о шатрах кочевников как об альтернативном жилье, не ложащемся гнетом на землю. Ричард Бертон, востоковед и исследователь XIX века, сумевший переодетым пробраться в Мекку (а еще издавший скандальные версии «Тысячи и одной ночи» и «Камасутры» без цензуры), был похоронен в пригороде Лондона под каменной копией бедуинского шатра. Это непривычно монументальное воплощение архетипического элемента мобильности служит метафорой недолговечности «шатра» человеческого тела и воскрешения его обитателя — бродячей души — к вечной жизни.
Однако было бы востоковедческой фантазией изображать туарегов (которые в действительности представляют собой не однородную массу, а ячеистую — из зачастую противоборствующих кланов) как противников города, его памятников и памяти. Именно туарег стал недавно премьер-министром Мали, и немало туарегов работает в культурных учреждениях Тимбукту. Тем не менее в ХХ веке образ кочевника был переосмыслен, а на его шатер возложены новые метафорические обязанности. Мамфорд писал:
«Первобытный кочевник — до тех пор, пока не начал перенимать привычки горожан, — избавлял себя от необходимости приносить живых людей в жертву мертвым памятникам. Он путешествовал налегке. Нынешняя цивилизация уже по другим причинам, с другими целями должна, в свою очередь, поучиться у него: не просто путешествовать, но и жить налегке, быть готовой не только перемещаться в пространстве, но и приспосабливаться к новым условиям, к новым промышленным процессам, к новым культурным достижениям. Наши города должны быть не памятниками, а самообновляющимися организмами».
Ганс Майер, социалист и руководитель Баухауза, с которым мы уже встречались в конце предыдущей главы, тоже выступал за новый, кочевой образ жизни, предлагая в качестве иллюстрации фотографию с подписью «Жилище. Комната в кооперативе, 1926 год». На фотографии изображен искусственно созданный интерьер с самыми необходимыми для современной кочевой жизни вещами — раскладушкой, граммофоном на складном столике и складным стулом, висящим в сложенном виде на стене. Белые модернистские стены — tabula rasa, очищенная от тревожных воспоминаний, — оказываются при ближайшем рассмотрении тканью палатки. Майер писал: «Благодаря стандартизации нужд в отношении жилья, пищи и досуга [граммофон в углу] у нашего полукочевника появляется преимущество в виде свободы передвижения, экономии, упрощения жизни и отдыха, что для него жизненно важно». Отсутствие корней сулило не только экономические и психологические выгоды: помимо прочего оно помогло бы искоренить национализм, приведший к Первой мировой войне, стереть оставленную ею горькую память. «Наши дома мобильны как никогда. Большие многоэтажки, спальные вагоны, жилые яхты и трансатлантические лайнеры подрывают саму концепцию отчизны. Отчизна уходит в небытие. Мы учим эсперанто. Мы становимся космополитами».
Сейчас эсперанто — погибшая голубая мечта давно почивших чудаков, а десятилетия глобализации поставили крест на концепции мирового капитала как миротворческой силы: отсутствие корней не исключает войны, а война зачастую приводит к утрате корней. Росту благосостояния и душевному покою бедных глобализация тоже не особенно помогла (вот он — довод в пользу бруталистской монументальности в противовес капиталистической размытости и зыбкости). Кроме того, палатку кочевника не назовешь мирной. Те же туареги — прославленные воины, совершающие набеги из бескрайних песков пустыни на расположенные южнее города. И хотя кочевническую палатку пытаются вынести за скобки истории (что-то вроде средства против исторического кошмара, от которого отчаянно желают очнуться модернисты), на самом деле она так же незыблема, как глина и кирпич. Шатры туарегов сооружают женщины во время свадебной церемонии (в языке туарегов «шатер» означает также и брак, и вагину), чтобы потом возить с собой до конца жизни. Пусть и не прикованное к одному месту, это жилище все же долговечно и так же наполнено воспоминаниями — личными, семейными, общинными, как и великие памятники Тимбукту и Дженне.
Для оседлых жителей Запада город тоже может превратиться в огромную обитаемую «мадленку», где определенные улицы и закоулки навсегда помечены неугомонным псом памяти. Так, для меня покореженный уличный указатель у кладбищенской стенки в Оксфордшире остался памятником подростковому бунту, а вид из Хрустального дворца хранит память об окончании одной романтической связи. Архитектура переполнена подобными личными воспоминаниями, и даже пышные мемориалы, увековечивающие коллективную память, далеко не монолитны. Людская забывчивость, ошибочные воспоминания, противоречащие друг другу толкования событий прошлого подтачивают их куда сильнее, чем хотелось бы тем, кто их воздвигал. Памятники постоянно обновляются, как осыпающиеся малийские мечети, и каждый из них может превратиться в антипамятник, исписанный нашими собственными воспоминаниями.