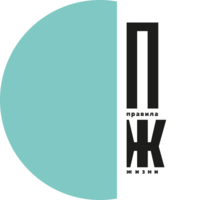Тьерри де Дюв. «Невольники Маркса: Бойс, Уорхол, Кляйн, Дюшан»
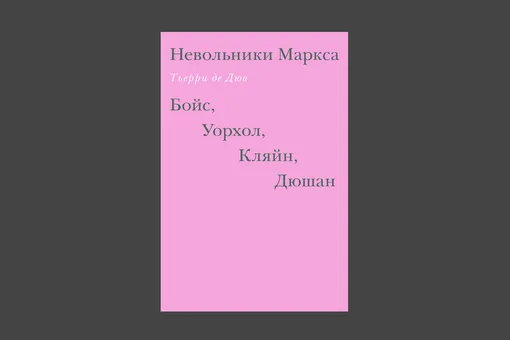
© Шестаков А., перевод, 2016
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2016
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС» / IRIS Foundation, 2016
На первых порах, будучи коммерческим художником, Уорхол работал в рекламе как рисовальщик. В этой индустрии, где социальный спрос подогревается в расчете на меновую стоимость, где властвуют рентабельность и забота о наибольшей производительности, диктующие предпочтение фотографии, он практиковал полное старомодного шарма, уважаемое за подчеркнуто личностный характер, но продаваемое по все той же меновой стоимости ремесло. Так, например, для обувной фирмы «I. Miller Shoes» он рисовал туфли с очевидными для всех фетишистскими (на сей раз во фрейдистском смысле) коннотациями и ярко выраженным характером «ручной работы». В какой-то момент ему, как оппортунисту, пришло в голову, что на рынке живописи он сможет заработать больше, чем в рекламе. На дворе стояли лучшие дни абстрактного экспрессионизма, и «ручная работа» ценилась особенно высоко. После нескольких попыток заинтересовать галереи к вящему удивлению Уорхола выяснилось, что никто не испытывает интереса к его работам. У них была стоимость, но не было цены. Тогда он решил простонапросто продемонстрировать цену, сменив и предлагаемый товар, и рынок: стал реалистом, представляющим меновую стоимость в качестве сюжета. Изображения товаров, копии продуктов широкого потребления с подписью в качестве лейбла принесли ему долгожданный успех.

Уорхол — совершенная машина. Не то чтобы его желание сравняться с машиной в бесчувственности исполнилось. Вопреки всем стараниям убедить окружающих в обратном, он оставался таким же человеком, как и они. Не то чтобы его творчество, в отличие, скажем, от творчества Мане, было лишено следов желания, которое, чтобы быть узнанным в качестве желания, должно оставаться неутоленным. Он умел выгодно пользоваться несовершенствами шелкографии — потеками, неровным накатом краски, всякого рода «поверхностными казусами» (как говорил он сам), — и чем больше он повторял идентичные изображения, тем больше само умножение привлекало внимание к их отличиям между собой, наделяя их индивидуальностью. Совершенной машиной Уорхол может быть назван потому, что он в полной мере реализовал желание живописца стать машиной как историческую необходимость. И положил ему конец, так же как Бойс положил конец воле художника к воплощению в себе пролетария. Век спустя после Мане, но подобно ему и Матиссу, Уорхол пошел по четвертому пути — пути бесстрашного приятия рынка и расставания с донкихотскими утопиями, адепты которых не желают мириться с превращением любителей искусства в потребителей и борются с меновой стоимостью во имя стоимости потребительной. Он считал эту борьбу бессмысленной с хладнокровием, способным шокировать разве что тех, кто все еще надеется, что авангардное искусство приведет к закату капитализма. Товарный фетишизм он сделал своей философией. Его книгу, в которой эта философия излагается, можно было бы назвать так: «От Энди до Бодлера и обратно»; от туфель, которым он умело придавал шик средствами рисунка в бытность обычным коммерческим художником, до «знаков доллара», которыми он щедро снабжал лео Кастелли, чтобы удовлетворить спрос, когда стал «бизнес-художником». Казалось бы, величайший цинизм заключался в идее печатать шелкографическим способом деньги, товар из товаров, абсолютный фетиш. Однако то, что на рынке искусства — золото, на рынке ценностей — пустое обещание. Уорхол знал цену тому, что не имеет ценности (она же стоимость). Он умел быть не только машиной живописи, но и печатной машиной, и машиной киносъемки или звукозаписи — киноаппаратом или диктофоном, — и кассовой машиной художественного рынка. Он исполнил модернистское желание быть машиной, продемонстрировав его смысл в искусстве своих предшественников, не оставив сомнений в том, что идеальное наложение политэкономического поля на эстетическое равняется монополистическому капитализму. Художественный рынок — это рынок монополий, и не столько потому, что, подобно драгоценностям, он является осколком ушедшей эпохи, сколько потому, что принадлежит на правах специализированной отрасли к культурной индустрии, ищущей монополии всюду, где она еще возможна. В такой ситуации, не дающей более повода для утопий (каковых, стоит напомнить, не лелеяли ни Мане, ни Матисс, ни Моне, ни Сёра, ни Сезанн), различие между авангардом и академизмом теряется. Дело лишь в разделе рынков и — поскольку монополии недолговечны — в скорости. В том, к чему ближе имя художника — к подписи-фетишу или к фабричной марке, по чему он котируется — по «руке» или по лейблу, подобному этикетке, определяющей меновую стоимость платья. Пятнадцать минут знаменитости, затем — растворение в моде и смерть.

Когда Уорхола спросили, мечтал ли он стать великим художником, ответом было: «Нет, скорее уж знаменитостью». Возможно ли, чтобы в одном желании соединялись три, да еще каких: быть знаменитым, быть машиной и быть Матиссом? Но самое удивительное, что искусство Уорхола показывает себя долговечным. По крайней мере лучшее в нем, созданное между открытием первой «Фабрики» и покушением Валери Соланас. Может быть, дело в том, что оно воплотило американскую мечту во всем вплоть до ее кошмарной стороны, обнаружив пробуждаемое товаром жуткое влечение к смерти. Решаясь на абсолютный нарциссизм, нужно быть готовым наслаждаться и тем, что подтолкнуло Мэрилин к самоубийству. Не бархатным миром звезд, а сумрачным вампирским междумирьем вдохновлялся Уорхол. Его кино обращалось к сладким снам Голливуда пятидесятых лишь ради того, чтобы материализовать ужас, который со времен двадцатых в том же Голливуде все больше боялись впускать в кадр. Решаясь быть совершенной машиной в виде фотоаппарата или диктофона, нужно приготовиться быть всеми машинами, в том числе и машинами смерти — электрическим стулом, могилами на колесах из «Автокатастроф». Решаясь на автопортрет в виде банки супа «Campbell», нужно приготовиться попасть в банку отравленных рыбных консервов из «Тунцового бедствия». Уж не является ли смерть человека условием продолжения творчества? Не иначе как непричинная логика «поверхностных казусов» захотела, чтобы Уорхол, расстрелянный Валери Соланас, выжил потому,что передовицы газет в этот день были бы отняты у него убийством Роберта Кеннеди. И чтобы он умер 22 февраля 1987 года словно по недоразумению, как товар, в котором не обнаружили вовремя фабричный дефект.