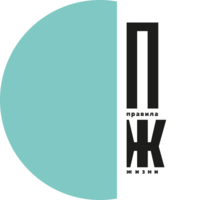Майк О’Махоуни. «Сергей Эйзенштейн»

«Двадцати семи лет мальчик из Риги становится знаменитостью»
В марте 1926 года Эйзенштейн и оператор Тиссэ отправилисьв Берлин на международную премьеру «Потемкина». Вне рабочей миссии режиссеру впервые выпала возможность навестить могилу отца. В течение пяти недель берлинской поездки они с Тиссэ нала-живали контакты с представителями немецкой киноиндустрии: на студии УФА они познакомились с Фрицем Лангом и его женой,сценаристкой Теа фон Харбоу, которые в то время работали над своей знаменитой картиной «Метрополис», и известными немецкими операторами Карлом Фройндом и Гюнтером Риттау. Затем они посетили съемочную площадку еще одного фильма студии УФА, «Фауста» режиссера Фридриха Мурнау с Эмилем Яннингсом в главной роли. Ни Ланг, ни Мурнау, тем не менее, не уделили много времени Эйзенштейну, чья международная известность в то время была еще далека от своей вершины. Положение вещей кардинально изменила премьера «Потемкина» в Германии, но перед этим режиссеру пришлось преодолеть ряд препятствий.
Вскоре после прибытия Эйзенштейна в Берлин рейхс-комиссар по надзору за общественным порядком подготовил доклад, в котором требовал запретить показ «Потемкина» в связи с революционно-пропагандистским характером картины. Учитывая более раннее заявление Эйзенштейна: «не должно быть иного кино, кроме агиткино», и ту ценность, которую советское государство придавало «Потемкину» благодаря его агитационным качествам, этому поступку нельзя отказать в логике. Несмотря на противодействие, немецкие кинопрокатчики добились получения лицензии и смогли выпустить фильм на экраны. Правда, из-за этой неудачной задержки премьера состоялась только 29 апреля 1926 года — через три дня после того, как Эйзенштейн и Тиссэ вернулись в Москву.
Разногласия, которые вызвала премьера «Потемкина» в Германии, привели к еще более широкой полемике. Солдатам немецкой армии было строжайше запрещено посещать показы фильма; дошло до того, что на входах в некоторые кинотеатры выставили охранников в штатском. Последняя сцена «Потемкина» заставила Рейхстаг всерьез забеспокоиться об угрозе, которую представляет собой советский флот. По иронии судьбы, именно в этом месте Эйзенштейн вставил кадры старой хроники с маневрами флота США. В мае шумиха вокруг «Потемкина» вышла на новый виток, когда в Берлин приехали Дуглас Фэрбенкс и Мэри Пикфорд и изъявили желание посмотреть фильм в кинотеатре. Для голливудских звезд был организован эксклюзивный показ, на котором оркестр исполнял специально написанное Эдмундом Майзелем музыкальное сопровождение к ленте. Сразу после мероприятия Фэрбенкс заявил, что просмотр «Потемкина» стал «самым сильным и самым глубоким переживанием в его жизни». Цитата появилась в прессе, и в скором времени картина Эйзенштейна завладела вниманием всего мира.
За последующий месяц не раз вновь предпринимались попытки запретить фильм, который один из немецких политиков назвал «коварным и опасным зверем, вцепившемся в глотку государства». Подобные заявления только раздували огонь и раззадоривали левых либертарианцев, вставших на сторону «Потемкина» из-за своей принципиальной позиции, отрицавшей цензуру. К лету 1926 года отношение к фильму Эйзенштейна стало чуть ли не определяющим критерием между левым и правым крыльями правительства Германии. В конечном итоге полемика привела к тому, что «Потемкин» стал громким событием и главным фильмом эпохи. Несмотря на постоянное политическое противодействие, фильм обошел всю страну и привлек огромное количество зрителей — даже больше, чем у себя на родине. В других странах последовала аналогичная реакция. В Британии, где только недавно закончилась всеобщая стачка, консервативное правительство Стэнли Болдуина сочло фильм слишком революционным и запретило публичный показ. Советская пресса не упустила возможности с ехидством отметить, что министр внутренних дел, сэр Уильям Джойнсон-Хикс, подписавший постановление о запрете, лично фильм даже не видел. Примеру Британии последовали Италия, Испания,Дания, Норвегия и страны Прибалтики. Во Франции коммерческий показ «Потемкина» также попал под запрет, но благодаря стараниям Леона Муссинака, французского энтузиаста коммунистического кино, фильм, наряду с другими советскими лентами, был в закрытом порядке показан в его клубе «Друзья Спартака».
В Соединенных Штатах ситуация оказалась не столь однозначной. Хотя пик борьбы с «красной угрозой» остался уже позади, большевизм все еще вызывал серьезные опасения, и вопрос о прокате фильма в стране неизбежно вызвал протест. В Пенсильвании, к примеру, публичный показ однозначно запретили. Однако в декабре 1926 года в нью-йоркском кинотеатре «Билтмор» все же прошла официальная премьера. Джон Грирсон, впоследствии известнейший британский режиссер документального кино, адаптировал фильм для американской аудитории. Несомненно, выходу фильма на экраны в большой мере способствовала поддержка таких светил Голливуда, как Фэрбенкс и Пикфорд, а Чарли Чаплин вовсе назвал «Потемкина» «лучшим фильмом в мире».
Международный успех «Потемкина» стал для советских властей неожиданностью. Безусловно, они оценили тот факт,что внимание к ленте Эйзенштейна подняло репутацию советского кинематографа и, что не менее важно, увеличило кассовые сборы. Тем не менее, к беспокойству идеологов, своим успехом лента была скорее обязана поддержке не пролетариата, а интеллигенции, которую куда больше интересовали эстетические достоинства фильма, нежели пропаганда большевизма. Несмотря на то, что фильм, очевидно, вызывал расположение международного зрителя к Советскому Союзу, едва ли он мог разжечь мировую революцию, чего опасались самые ярые зарубежные критики. Красноречиво охарактеризовал ленту Кэл Йорк, обозреватель журнала «Фотоплэй»: «Вряд ли после просмотра фильма кто-то стал большевиком,но многим он насадил революционные идеи в области кинема-тографа».
Успех «Потемкина» стал поворотным моментом в жизни Эйзенштейна. Буквально за один день режиссер стал международной знаменитостью, внимания которой искали самые влиятельные представители общества. До середины 1920-х годов пересечь границу Советского Союза было не так-то просто, поскольку многиез ападные страны не признавали легитимность правительства большевиков. И все же в 1925 году начались перемены. Стремясь расширить международные связи и поднять престиж страны, советское правительство учредило ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Главной целью организации было привлечение в страну туристов, а вместе с ними — твердой валюты. Поначалу деятельность ВОКСа приносила скромные результаты, но с открытием «Интуриста» в 1929 году количество приезжих значительно возросло. Однако и до того, в 1927 и 1928 годах, среди редких туристов из западных стран многие по приезде в Москву прямиком отправлялись к порогу маленькой квартирки на Чистых прудах, где жил Сергей Эйзенштейн.
Так, в июле 1926 года в Москву прилетели Фэрбенкси Пикфорд, и их сразу же окружила толпа неистовых поклонников. Приезд «золотой пары» Голливуда поднял настоящую шумиху в прессе. По этому поводу даже был снят сатирический фильм о «звездной лихорадке» под названием «Поцелуй Мэри Пикфорд», куда вставили кадры из кинохроники, снятой во время визита знаменитостей. На встрече с Эйзенштейном Фэрбенксу и Пикфорд вручили копию «Потемкина». Те, в свою очередь, предложили Эйзенштейну снять фильм для кинокомпании «Юнайтед артистс» в Голливуде, чтобы закрепить свою репутацию как за рубежом, так и на родине. Позже Эйзенштейн с ликованием вспоминал: «Дуг и Мэри едут в Москву "пожать руку" мальчику из Риги, сделавшему "Потемкина"».
Вскоре дом Эйзенштейна посетили и другие представители культурной элиты со всего света. Из США приехали писатели Теодор Драйзер, Синклер Льюис и Джон Дос Пассос, университетский профессор Генри Дана и журналисты Луис Фишер и Джозеф Фримен. В декабре 1927 года Эйзенштейн познакомился с Альфредом Барром, будущим директором Музея современного искусства в Нью-Йорке. Его гостем из Франции стал Леон Муссинак,из Германии — художница Кете Кольвиц и танцовщица Валеска Герт, из Швейцарии — архитектор Ле Корбюзье. С Эйзенштейном встретился Диего Ривера, мексиканский живописец-муралист,который большую часть того года работал на советское правительство в Москве. Он же первым встретил Эйзенштейна четыре года спустя в Мексике во время злополучного путешествия для съемокфильма «Да здравствует Мексика!»
Вдохновленный успехом, Эйзенштейн совместно с Сергеем Третьяковым приступил к работе над следующим запланированным проектом — фильмом по успешной театральной постановке драматурга «Рычи, Китай!» (1926). Агрессивная критика западного империализма и классовой эксплуатации в пьесе были идеальным плацдармом для еще одного фильма революционной тематики. На этой оптимистичной волне Третьяков и Эйзенштейн запросили финансирование съемок в Китае, однако на этот раз получили отказ. Сейчас с уверенностью нельзя сказать,что именно послужило мотивом отказа, но причин могло быть несколько. Во-первых, несмотря на сборы «Потемкина», оборот твердой валюты в стране по-прежнему был низок, что осложняло выезды за границу. Во-вторых, совсем недавно в Китае ухудшилась политическая обстановка из-за отделения Национальной революционной армии Чана Кайши от Коммунистической партии Китая. Наиболее же вероятной причиной отказа, скорее всего, было желание властей приберечь талант молодого режиссера для отечественных проектов. В декабре 1924 года концепция Сталина о «социализме в отдельно взятой стране» начала превалировать над теорией Троцкого о «перманентной революции». Правящая партия уже не задавалась целью всемирной революции — делом первой важности стало экономическое и политическое укрепление Советского Союза. И кинематограф играл в этом укреплении не последнюю роль.
В 1926 году Совкино поручило Эйзенштейну съемки двух фильмов — «Октябрь» и «Генеральная линия» (второй позже был переименован в «Старое и новое»). Действие обоих происходит на родине: первый прославляет победу революции большевиков, второй повествует о борьбе за революционные ценности в деревне. Можно предположить, что Совкино ожидало от Эйзенштейна продолжения работы в том же духе, что принес успех «Потемкину», и едва ли в организации учли неуемную тягу режиссера к экспериментам. Вдохновленный радикальными решениями «Потемкина», Эйзенштейн стремился развить новый кинематографический язык — позже такое кино он назовет «интеллектуальным». В итоге и «Октябрь», и «Староеи новое» ознаменовали важнейший перелом в творческом пути Эйзенштейна, хотя и не снискали признания прежде восторженных критиков и привели к спаду его карьеры.
Первым Эйзенштейн получил заказ на «Генеральную линию», однако фильм вышел на экраны только спустя полтора года после премьеры «Октября». Пока «Потемкин» бурей проносился над Европой, Эйзенштейн и Александров уже вернулись в Москву и начали работу над сценарием для нового проекта. В июле начались съемки в деревнях неподалеку от Москвы. «Генеральная линия» должна была отразить изменения политического курса, принятые на XIV съезде партиив 1925 году. Укрепив — по крайней мере, на уровне видимости — свое положение в городах, власти по-прежнему не могли заручиться достаточной поддержкой регионов. А поскольку 80% населения проживало в деревнях, от их поддержки непосредственно зависел успех продолжения дела революции. Добиться ее оказалось задачей непростой. После экспроприации зерна и другого продовольствия во время Гражданской войны большевики едва ли могли легко снискать расположение сельских жителей, особенно если учесть, что за этим последовал голод 1921–1922 годов, унесший миллионы жизней. Ко всему прочему, позиция самих большевиков по отношению к крестьянству оставляла желать лучшего. Если городской пролетариат выполнял функцию авангарда революционного сознания, то крестьяне несли на себе клеймо необразованных масс, приверженных старым традициям и противящихся модернизации. Здесь и возникало противоречие. С одной стороны, жизнеспособность страны целиком зависела от сельского производства продовольствия для обеспечения городов, а значит государство нуждалось в поддержке крестьянства. В то же время, советское правительство поставило своей целью перейти к более современным агротехническим методам, что, вероятно, потребовало бы применения силы. В 1926 году был официально принят курс на модернизацию деревни, с пониманием того, что процесс будет медленным. В частности, правительство признало необходимость сохранить рыночную экономику для поддержания стабильности в сельском хозяйстве. Модернизация, таким образом, виделась партии как долгосрочная перспектива, а не мгновенное переустройство.
«Генеральная линия» должна была стать вдохновляющим примером перемен и скорее картиной будущего, нежели отражением настоящего. Лента повествовала о том, как усилиями одной женщины в отдаленной сельской общине происходит коллективизация. Выбор исполнительницы главной роли имел решающее значение, и здесь Эйзенштейн вновь отказался от профессиональных актрис, отдав предпочтение обычной крестьянке. Главную роль в ленте сыграла Марфа Лапкина, обладательница характерной внешности, чье огрубевшее, но исполненное оптимизма лицо определенно добавило картине убедительности. Изначально ее героиня должна была носить имя Евдокия Украинцева, чтобы подчеркнуть важность Украины как сельскохозяйственного региона, но в финальной версии фильма Лапкина предстает под своим настоящим именем. Более того, режиссер настоял, чтобы после съемок она вернулась в свою деревню. Эйзенштейн вновь с осторожностью переплетает документальность и сюжетность, размывая грань между реальностью и вымыслом. Съемки продолжались на протяжении лета 1926 года в нескольких деревнях, но процесс сильно затрудняла плохая погода. В итоге съемочная группа в поисках подходящего света была вынуждена отправиться на юг, где продолжала работу над фильмом почти до конца года.
Однако вовсе не погода стала главным препятствием на съемках «Генеральной линии». К сентябрю 1926 года развернулась массовая подготовка культурных мероприятий в честь празднования десятилетия Октябрьской революции. По государственному заказу начались съемки картин, посвященных событиям 1917 года, в том числе «Конца Санкт-Петербурга» Всеволода Пудовкина и «Москвы в октябре» Бориса Барнета. Дзига Вертов и Эсфирь Шуб, в свою очередь, приступили к работе над несколькими крупными документальными лентами. Эйзенштейн, с недавних пор ярчайшая фигура советского кинематографа, получил от Юбилейной комиссии заказ на центральную постановку об истории революции под названием «Октябрь». От этого предложения он не мог и не захотел бы отказаться.
Учитывая важность заказа, вмешательство властей в съемочный процесс было неизбежным. Во-первых, Эйзенштейну рекомендовали придерживаться изложения событий по книге «Десять дней, которые потрясли мир» (1919), написанной американским писателем Джоном Ридом, свидетелем Октябрьского переворота. Во-вторых, если раньше Эйзенштейн отдавал главную роль массам, то теперь его принудили включить в повествование фигуру Ленина. Режиссер вновь отказался от привлечения актеров и начал поиски человека, похожего на покойного вождя. В конечном счете он остановился на не известном никому рабочем по имени Василий Никандров, но даже это самостоятельное решение встретило открытую критику культурного сообщества. Осип Брик и Эсфирь Шуб с негодованием отнеслись к решению снимать актера в роли Ленина, а Маяковский вовсе заявил, что забросает яйцами любого фальшивого вождя на экране, —к счастью, обещания своего он не исполнил.
К началу 1927 года Эйзенштейн и Александров закончили работу над первым вариантом сценария «Октября» и отправили его на согласование в Юбилейную комиссию. Изначально сюжет охватывал широкую панораму — от предшествующих революции событий до Гражданской войны. В конечный вариант, тем не менее, вошел только период с Февральской революции 1917 года до штурма Зимнего дворца ночью 7–8 ноября. В марте съемочная группа выехала в Ленинград; через несколько недель съемки были в самом разгаре. На протяжении летних месяцев Эйзенштейн буквально взял город под свой контроль. Красная армия, пожарные бригады и городские власти были готовы исполнять его указания и даже отключили электропитание во всем городе, когда для съемок понадобилось осветить Дворцовую площадь. Перед Эйзенштейном открыли двери Зимнего дворца и Смольного — двух главных мест действия революционных событий.
Съемки продолжались все лето и осень, после чего Эйзенштейн вернулся в Москву, чтобы закончить открывающую фильм сцену — снос памятника царю Александру III. К тому времени режиссеру приходилось работать в большой спешке — в середине октября 1927 года съемки все еще продолжались, и закончить монтаж к предполагаемой дате юбилейной премьеры едва ли представлялось возможным. В начале ноября, спустя две недели непрерывного труда, стресс дал о себе знать — здоровье Эйзенштейна подорвалось. Врачи настояли на постельном режиме. В итоге в день годовщины революции на экране Большого театра появились только две из объявленных трех исторических картин — Пудовкина и Барнета. Из незаконченного «Октября» Эйзенштейна показали только несколько избранных сцен.
Оправившись, Эйзенштейн вернулся к работе и закончил первую версию монтажа к середине января 1928 года. К тому времени ему пришлось вырезать все сцены с Троцким — предположительно, по личному требованию Сталина, после исключения бывшего главнокомандующего Красной армии из партии. Премьера «Октября» была назначена на 14 марта 1928 года, накануне Первого Всесоюзного партийного совещания по кино. За неделю до установленной даты Эйзенштейн продолжал настаивать на том, что для удовлетворительного результатаему потребуется больше времени.
В конце 1927 года Эйзенштейн описывал «Октябрь» как «решительный разрыв с фактическим и анекдотическим», подразумевая, что его цель — пойти дальше уже закоренелого к тому времени конфликта между документальным и художественным кино. «"Октябрь", — писал он, — являл собой новую форму кинематографа: коллекцию эссе на ряд тем, которые составляют Октябрь». Символизм и метафора были его инструментами создания нового языка кинематографа. Позже режиссер рассказывал, что поворотным моментом в формировании его теории стало использование череды кадров с алупкинскими львами в «Потемкине», которые ознаменовали «скачок от изображения повседневной жизни к абстрактной и обобщенной образности». «Октябрь», писал он, «обуздал» львов. Конечно, можно поставить под сомнение, что использование символики и метафор стало таким уж «разрывом» с его прошлым творчеством; ими пронизаны и его ранние театральные и кинематографические работы. Однако масштаб применения подобных тропов в «Октябре» стал совсем иным.
Это становится видно уже с первых кадров фильма. После того как гаснут титры, на экране возникает крупный план статуи царя Александра III работы скульптора Александра Опекушина, изначально установленной перед Храмом Христа Спасителя в Москве в 1912 году. Крупные планы коронованной головы, державы и скипетра в руках делают акцент на этих символах монархической власти, а надпись на постаменте гласит: «Императору всея Руси». В следующей сцене на постамент забирается женщина и призывает рабочих присоединиться к ней. Они обвязывают веревками голову и туловище памятника и в конце концов опрокидывают его на землю. Титр сообщает зрителю, что этот мятежный акт был совершен в феврале 1917 года и метафорически воплотил свержение монархии во время Февральской революции.
Драматическая сцена начала фильма поднимает важные вопросы. К примеру, почему Эйзенштейн выбрал статую Александра III, а не Николая II, который в тот момент был на престоле, в качестве символа гнета монархической власти? Нужно помнить, что Александр III прославился как один из самых жестоких и деспотичных правителей Российской Империи, а брат Ленина, Александр Ульянов, был казнен в 1887 году именно за покушение на жизнь Александра III. Для Эйзенштейна, тем не менее, большее значение имел грозный, тяжеловесный вид самой статуи, которая выразительно олицетворяла царскую власть, казавшуюся прочной и неизменной. Этот архетипический неподвижный образ прошлой эпохи легко сметает неудержимая сила большевизма, в драматическом ключе подтверждая марксистскую теорию о неизбежности революции.
Второй вопрос касается того, насколько документально Эйзенштейн стремился инсценировать само событие. Сторонники большевиков действительно снесли памятник, однако произошло это в Москве, а не в Петрограде, и не в феврале 1917 года, а уже после Октябрьской революции, в 1918 году, после принятия ленинского плана монументальной пропаганды. При подготовкек съемкам Эйзенштейн обращался к документальным источникам, в частности к серии фотографий, опубликованных в журнале «Новый ЛЕФ» в марте 1927 года. Эсфирь Шуб показывала режиссеру кадры из своих документальных картин 1927 года, где были запечатлены обломки разрушенной статуи. Можно предположить, что эти документальные кадры натолкнули Эйзенштейна на мысль использовать статую в своем фильме.
Эйзенштейн заказал для съемок гипсовую копию памятника в натуральную величину, которую для достоверности установил на фоне Храма Христа Спасителя. Для усиления драматического эффекта режиссер изменил некоторые документально зафиксированные детали. На фотографиях видно, что на момент сноса памятник окружали строительные леса, но их Эйзенштейн устанавливать не стал — вероятно, потому, что леса могли предполагать спланированный характер сноса. Иными словами, Эйзенштейн опирался на фотографические свидетельства, однако адаптировал их для съемок таким образом, чтобы добавить энергии и спонтанности тому, что на самом деле было тщательно продуманным процессом. Перефразируя диалектический марксистский подход, он объявил единение документального и художественного новой кинематографической формой, которую позже охарактеризовал как «по ту сторону игровой и неигровой».
После вступительной сцены в фокусе «Октября» оказывается Временное правительство во главе с Александром Керенским, которое продолжает поддерживать связь с церковью и буржуазией. Первым делом новая власть решает не прекращать помощь своим союзникам в Первой мировой войне, чем подрывает доверие и рабочих, и солдат. Эйзенштейн вновь прибегает к монтажным приемам и метафорам, чтобы подчеркнуть значимость этого предательства. Кадры с русскими солдатами, испуганно смотрящими вверх из окопа, быстро чередуются с крупными планами артиллерийского орудия, которое на заводе спускают вниз на веревках — словно на головы солдатам. Так Эйзенштейн метафорически изображает государственный аппарат, который давит под собой простого солдата.
Следующий эпизод — прибытие Ленина в Петроград. Его окружает приветствующая толпа, и динамика людского потока в буквальном и переносном смысле поднимает бурю. Революционная энергия Ленина контрастирует с апатией и праздностью Керенского и его окружения, уютно устроившихся в бывшей царской резиденции — Зимнем дворце.
Далее фильм освещает события так называемых «июльских дней», когда восстание рабочих было жестоко подавлено верными Временному правительству войсками. Труп белой лошади, свисающий с моста — разведенного, чтобы отделить рабочие кварталы от центра города, — символизирует поражение, хотя и временное, радикальных сил. Неожиданно Эйзенштейн вводит здесь библейскую аллегорию: молодого агитатора-большевика атакует группа представительниц буржуазии, вооруженных остроконечными зонтиками. Эти в остальном безвредные символы буржуазной женственности буквально закалывают юношу, воскрешая в памяти зрителя сцену мученической смерти святого Себастьяна.
Открытый доступ к Зимнему дворцу дал Эйзенштейну возможность перевести свою технику символического и метафорического монтажа на новый уровень. Так, он высмеивает самонадеянность Керенского и его жажду власти, несколько раз показывая, как тот поднимается по Иорданской лестнице, перемежая сцену титрами с напыщенными титулами, которые он зарабатывает по пути. Когда Керенский достигает верха и оказывается перед дверями покоев бывшей царицы, чье имя и отчество — Александра Федоровна — созвучны с его собственными, он задерживается под символической статуей, которая держит на весу венок. Угол съемки создает впечатление, что она коронует им Керенского, еще раз подтверждая, что Временное правительство — не что иное, как перерождение старой монархии.
Не только просторы залов Зимнего дворца способствовали применению разнообразных приемов съемки. Самую неоднозначную реакцию общественности вызвали эпизоды с элементами декора бывшей царской резиденции. Взять самый известный пример — крупный план механического павлина, который поворачивается задом к зрителю и, будто бы, к Керенскому, который открывает двери в покои царицы. С одной стороны, этот монтаж призван выставить главу Временного правительства механической игрушкой, безвольной и незначительной, в руках старого режима. С другой, ассоциация с павлином выставляет Керенского самовлюбленной, напыщенной и тщеславной фигурой. Позже кинокритики предпринимали попытки еще более глубокого анализа этой сцены. Юрий Цивьян, к примеру, увидел здесь сексуальную метафору и предположил, что павлин олицетворяет Зимний дворец, в который Керенский входит «с тыла». Цивьян приводит примеры еще нескольких метафор «Октября», которые приравнивают штурм Зимнего дворца к сексуальному завоеванию или даже изнасилованию. Важно, однако, не то, принимать эти интерпретации или нет, но тот уровень сложности и неоднозначности, который несет в себе монтаж Эйзенштейна.
Самые яркие и в то же время спорные метафоры Эйзенштейн использовал для создания ощущения угрозы, нависшей над революцией во время «июльских дней». Генерал Корнилов стягивает войска для нанесения контрреволюционного удара; обычные рабочие и солдаты вооружаются, готовясь защищать город, тогда как члены Временного правительства продолжают бездействовать в своем роскошном и безопасном пристанище. Режиссер монтирует общие планы Керенского с крупными планами фигурки Наполеона, стоящего в такой же позе. У главы правительства императорские замашки, словно говорит режиссер; революция предана. Это же сравнение он применяет к Корнилову: генерал верхом на лошади показан как копия др-гой статуэтки Наполеона. Два маленьких Бонапарта затем оказываются друг подле друга — теперь их ничто не разделяет.
Своей техникой монтажа Эйзенштейн стремился сформировать такой художественный язык кинематографа, который был бы подобен языку в лингвистическом понимании. В статье, опубликованной в газете «Кино» в марте 1928 года, он писал: «Сферой новой кинословесности, как оказывается, является сфера не показа явления, ни даже социальной трактовки, а возможность отвлеченной социальной оценки... Это будет искусство непосредственной кинопередачи лозунга. Передачи столь же незасоренной и прямой, как передача мысли квалифицированным словом».
Назревающая концепция «интеллектуального» монтажа Эйзенштейна в «Октябре» наиболее ярко проявила себя в отрывке, известном по титру «Во имя Бога и Родины». Этот одиозный лозунг Корнилова открывает последующий визуальный ряд, которым Эйзенштейн развенчивает самые основы религиозной веры. Друг друга сменяют крупные планы различных образов божеств и архитектурных элементов религиозных сооружений. Сначала барочная статуя Христа чередуется с луковичными куполами храма Спаса-на-Крови в Петрограде, символизируя русское православие. Их сменяет ряд восточных божеств и фрагменты мечети. Хотя Эйзенштейн не слишком точен в подборе образов, он, несомненно, подразумевает влияние восточных религий — в частности ислама — в отдаленных краях Советского Союза. Последовательность кадров достигает кульминации на изображениях древнеазиатских и североамериканских божеств и завершается примитивными деревянными статуэтками из Африки. Позже Эйзенштейн подтверждал, что его задачей было приравнять современные религии к древним, изжившим себя суевериям. В его собственных, нарочито опрощающих этот процесс и потому довольно проблематичных терминах, «по нисходящей интеллектуальной гамме эти куски и собраны и низводят идею бога к чурбану».